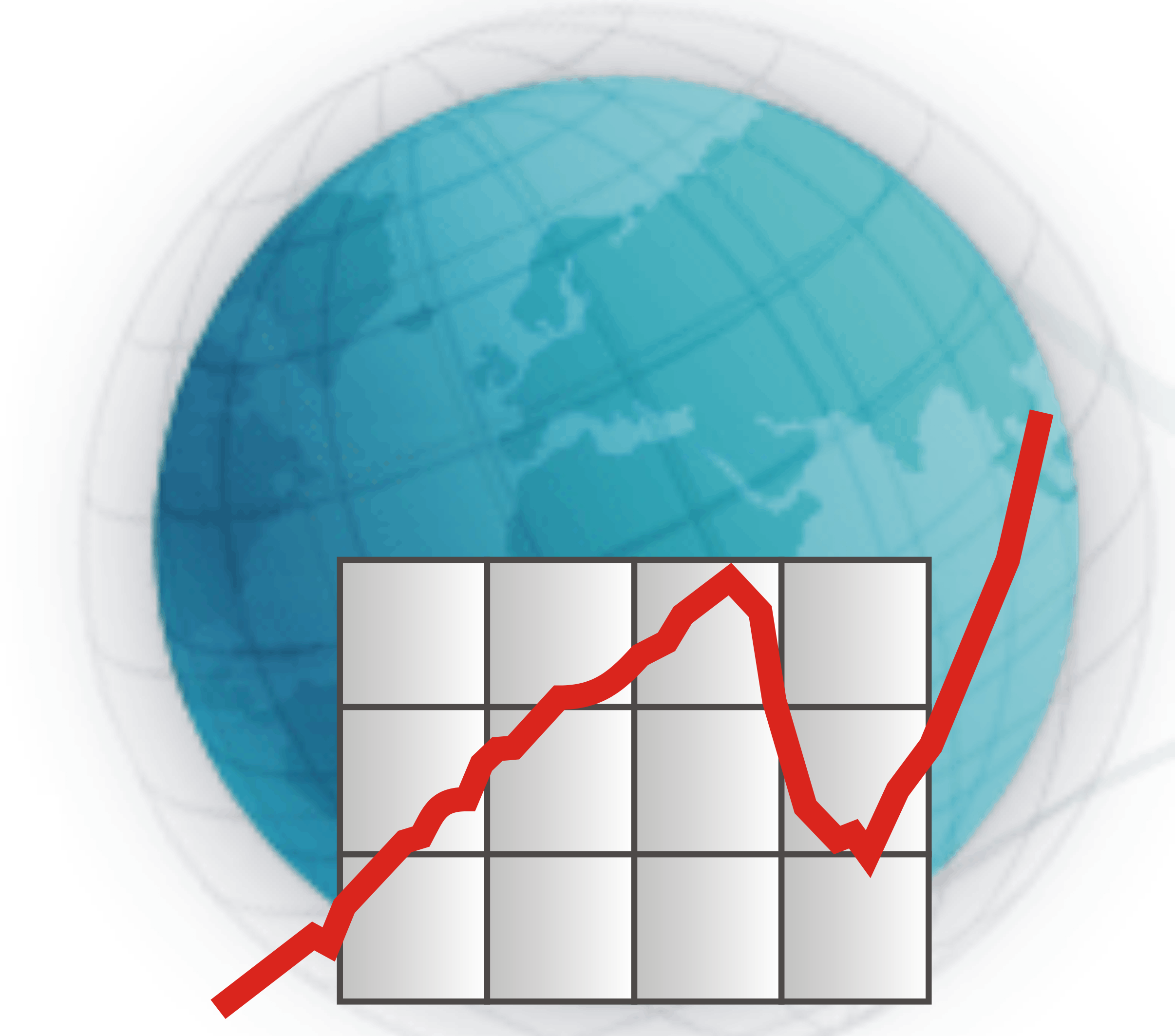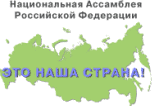|
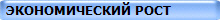
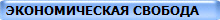
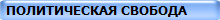
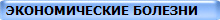
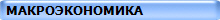

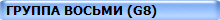
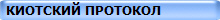

 Блог Андрея Илларионова Блог Андрея Илларионова





 





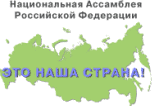


горизонты промышленной
политики
ИРИСЭН
|
ПУБЛИКАЦИИ
Андрей Илларионов
Слово и дело
Беседа в редакции
Опубликовано в журнале:«Континент» 2007, №134
Андрей ИЛЛАРИОНОВ — родился в 1961 г. в Сестрорецке, пригороде Ленинграда. Окончил экономический факультет и аспирантуру ЛГУ, кандидат экономических наук. В 1983–1990 гг. — ассистент кафедры международных экономических отношений ЛГУ. В 1990–1992 гг. — старший научный сотрудник и заведующий сектором Проблемной научно-исследовательской лаборатории региональных экономических исследований Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. В 1992–1993 гг. — первый заместитель директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ (РЦЭР). В 1993–1994 гг. — глава Группы анализа и планирования при премьер-министре России В. С. Черномырдине (советник премьер-министра). В 2000–2005 гг. — советник президента России по экономическим вопросам, личный представитель президента России (шерпа) в Группе восьми. С 1994 г. — директор, с 2000 г. — президент Института экономического анализа в Москве. С октября 2006 г. — старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне. Живет в Москве и Вашингтоне.
Слово и дело
Беседа с президентом Института экономического анализа
Андреем Илларионовым
От редакции
Намерение взять интервью у Андрея Николаевича Илларионова впервые возникло у редакции «Континента» еще в те времена, когда членом редколлегии журнала была безвременно ушедшая от нас в 2003 году Лариса Ивановна Пияшева — известный экономист, автор знаменитой в свое время статьи «Где пышнее пироги», которая была напечатана в 1987 году в журнале «Новый мир» и стала одной из первых, если не первой работой, положившей начало широкой дискуссии о необходимости в стране либеральной реформы. Уже тогда Л. И. Пияшева неизменно отзывалась об А. Н. Илларионове с высочайшим уважением и теплотой — и не только потому, что он принадлежал к той же, что и она, школе экономического либерализма (это не мешало им, однако, порою и спорить друг с другом). Главное, она уже и тогда, в 90-е годы, считала его прежде всего по-настоящему выдающимся экономистом, одним из самых глубоких и крупных экономических умов современной России. Конечно, мы в редакции не были специалистами в экономике, но даже по тем выступлениям и публикациям тогдашнего А. Н. Илларионова, которые были известны и достаточно внятны и нам, не специалистам, мы вполне понимали, как она права. И естественно, что уже тогда — и особенно после дефолта 1998 года, который, кстати, был предсказан именно и только А. Н. Илларионовым, — у редакции возникло твердое намерение непременно связаться с ним и попросить рассказать читателям «Континента» о своих взглядах на настоящее и будущее российской экономики.
Но грянувшая катастрофа 1998 года слишком тяжело отразилась на журнале, заставив редакцию на неопределенный срок отодвинуть многие свои планы и заняться прежде всего спасением журнала. Эти самоотверженные усилия и немногих оставшихся членов редакции, и большинства авторов, работавших для «Континента» весь этот период на одном благородном энтузиазме, без всякого вознаграждения, заняли почти три года. Именно столько понадобилось журналу, чтобы снова встать на ноги. Но к этому времени А. Н. Илларионов стал уже, как известно, экономическим советником нового президента России. И этот факт опять отодвинул наши планы на интервью с ним в область неопределенного будущего — мы (не без оснований, я думаю) полагали, что новое положение А. Н. Илларионова будет слишком его сковывать и мы вряд ли получим интервью той откровенности и той полноты, на которое рассчитывали. А после того как в 2005 году из-за несогласия с проводившейся политикой А. Н. Илларионов подал в отставку с поста советника президента России, его нарасхват и не по разу стали приглашать для интервью и выступлений во все хоть и немногие оставшиеся независимыми, но куда более тиражные СМИ. И мы решили, что опять нужно дать пройти некоторому времени, чтобы поток этой информации — совершенно необходимой и очень актуальной, но все же связанной прежде всего с мотивацией данного конкретного поступка (поступка, надо заметить, мужественного и этим поразившего многих), — более или менее исчерпал себя. И освободил место и возможность для той более содержательно широкой и проблемно объемной беседы, на которую мы и рассчитывали.
И вот в конце прошлого года это время настало. И, связавшись с А. Н. Илларионовым, мы не только получили его согласие на интервью для «Континента», но согласие на интервью именно в том формате, в каком нам и хотелось его получить. Мы можем только еще раз поблагодарить А. Н. Илларионова за то, что он отдал нам для этого интервью столько времени, — беседа с ним, в которой кроме меня со стороны «Континента» приняла участие ответственный секретарь журнала Ирина Владимировна Дугина, заняла не один полный вечер.
Но зато в результате мы можем предложить теперь нашему читателю чрезвычайно содержательный и необычайно интересный, на наш взгляд, текст, к тому же объемом около десяти авторских листов, что для жанра интервью — случай совершенно небывалый.
Мы разбили этот текст на две части и представляем в этом номере только первую из них. Разделяя единый текст на две части, мы нарушаем обычное правило «Континента», но пойти на этот шаг нас побудил в данном случае не только и не столько сам объем этой публикации (а никакое сокращение тут мы не считаем возможными). Разделение материала обусловлено прежде всего тем, что при всем естественном своем единстве, две его половины жанрово и тематически достаточно самостоятельны.
Дело в том, что нам с самого начала очень хотелось, чтобы наш собеседник рассказал нам не только о том, что связано с его недавним уходом из советников президента, но обстоятельно и подробно поделился своим концептуальным видением и пониманием прежде всего того, что происходило в России и с Россией вообще на протяжении последних двадцати лет — начиная с так называемой перестройки. И нам очень хотелось, чтобы рассказ Андрея Илларионова включил в себя и его личный человеческий опыт прохождения через это время. Именно так, как увидит читатель, мы и постарались построить всю беседу — начиная с первого вопроса и поддерживая заданный нами параметр последующими.
Андрей Николаевич поначалу не слишком охотно отзывался на наши постоянные и настойчивые попытки не выпускать его из личной, биографической колеи. Но очень скоро, как нам кажется, почувствовал и понял, что в таком алгоритме беседы есть свой большой и содержательно очень важный резон. И, не поддаваясь уже соблазнам ненужной и вредной в данном случае излишней скромности, стал подробно, обстоятельно и, что нас порадовало, очень откровенно и даже увлеченно припоминать, как именно, с какими неожиданными сюрпризами и вторжениями проходила история этих лет через его собственную, личную судьбу, — рассказ тем более любопытный и увлекательный, что многое из того, что происходило, происходило в интерьерах зданий на Старой площади (где до 1991 года располагался ЦК КПСС, а в 1991–1993 годах — Российское правительство), затем российского Белого дома и, наконец, Кремля.
Так сложилась первая часть публикуемого текста, биографическая канва которой и подвигла нас озаглавить ее «Антисоветчик» — тем ласково-шутливым прозвищем, которым, как рассказал нам Андрей Николаевич, друзья именовали его в школе.
Для второй же части, основное содержание которой составили ответы нашего собеседника на вопросы более общего, концептуального характера, связанные с нынешней ситуацией в России, с ее историей и с перспективами ее развития, А. Н. Илларионов предложил название «Столетняя война», смысл которого читатель поймет, когда познакомится со всем текстом интервью.
Вторая часть беседы с А. Н. Илларионовым будет опубликована в 135-м номере «Континента».
Игорь Виноградов
Часть первая. «Антисоветчик»
Встреча
— Андрей Николаевич, у нас очень много вопросов, на которые мы хотели бы услышать Ваши ответы, — и о том, что сейчас происходит с Россией, и о ее возможном будущем. Но нам хотелось бы подойти к этой теме, попросив Вас предварительно сделать экскурс в то недавнее прошлое России, из которого и выросло это ее настоящее. Как Вы видите стержневой рисунок и смысл того, что происходило с Россией в течение последних двадцати лет — начиная с перестройки? Вы ведь непосредственно участвовали во многих исторических событиях, определивших наполнение этого периода. И, может быть, именно так удобнее всего для Вас и подойти к рассказу о нем — через себя, через свою собственную судьбу? Это было бы ведь вдвойне интересно — и как анализ ученого-экономиста, и как свидетельство живого человека, непосредственно пропустившего через свою жизнь и свое сердце все то, что теперь подвергается холодному анализу специалиста. Это наше общее начальное пожелание, наш общий вопрос. Конкретно же первый вопрос хотелось бы задать вот какой: а как вообще случилось, что Вас повлекло в экономику и вынесло потом в бурный поток ее непосредственно-политической реализации? Что — с самого начала сознательной жизни эта область манила Вас? Почему?..
— Прежде всего я должен признаться, что к встрече с Вами, с журналом «Континент», я шел, наверное, три десятилетия. По крайней мере еще в середине 1970-х годов время от времени я слушал по радио (читать тогда, естественно, было невозможно) то, что публиковалось на страницах «Континента», узнал тогда имена В. Максимова, В. Аксенова, В. Некрасова, И. Бродского. По какому радио слушал? Конечно же, не по «Маяку» — по Би-би-си, по «Голосу Америки», по «Свободе». Как говорили когда-то, «есть обычай на Руси — ночью слушать Би-би-си». Да, многое сегодня возвращается на круги своя...
Теперь — к Вашим вопросам.
Сколько я ни пытался избежать встречи с мемуарным жанром, но, видимо, пора такая уже подходит.
Начало
Началось все, конечно, с родителей.
Родителям мы обязаны жизнью. Родителям мы во многом обязаны знакомством с миром, взглядами на жизнь, жизненными правилами. Своим родителям я обязан очень многим. Без них меня не только бы не было. Без них я не стал бы тем, кем стал. Мне очень повезло с родителями. Родителям я обязан в том числе и ранним знакомством с «Континентом». Думаю, что отец мой был бы рад, если бы узнал, что наша встреча с Вами все-таки состоялась.
Что касается выбора жизненного пути, то вообще-то я довольно долго готовился стать географом, собирался поступать на географический факультет университета. Но когда мне было 15 лет, случилась одна история, которая довольно сильно повлияла на мою дальнейшую жизнь.
В городке, где я рос, сносили старые деревянные дома. И мальчишки, естественно, направлялись на приключения в эти развалины. В одной старой усадьбе я нашел вузовский учебник. Это был первый советский учебник по политэкономии, «сталинский», госполитиздатовский, издания 1952 года. Вряд ли кого-нибудь из моих сверстников такая книжка могла заинтересовать. Но меня заинтересовала, и я почти всю ее прочитал еще в десятом классе. Не скажу, что я со всем там согласился, более того, многого я там не понял. Но мне очень захотелось понять. В общем, за несколько недель до сдачи документов в вуз я немало удивил свою семью, сказав, что буду поступать не на географический факультет, а на экономический. Вот так начался мой путь к экономике...
Школа
Первое же занимательное событие, вовлекшее меня в сферу общественно-политической жизни, произошло со мной, когда я учился в десятом классе. По случаю принятия новой Конституции СССР в конце 1977 года был объявлен конкурс школьных работ по обществоведению. Сначала он проходил на уровне школ, потом лучшие работы должны были попасть на районный, городской, республиканский и, в конце концов, на союзный уровень. Организаторами конкурса было предложено двадцать пять или тридцать тем, по которым рекомендовалось писать работы. В списке превалировали темы типа «Советская Конституция — новый шаг в строительстве развитого социализма», «Советский народ — единая межнациональная общность», «Л. И. Брежнев — гениальный продолжатель дела В. И. Ленина» и т. п. В общем, понятно, какие это были темы.
Однако в названии списка была допущена незаметная, но, как потом оказалось, весьма серьезная ошибка — он был назван «рекомендованным». Иными словами, юное поколение, не овладевшее еще взрослым языком вторых смыслов, вполне могло предположить возможность выбора свободной темы. Хуже того — на уточняющий вопрос моя учительница обществоведения, Раиса Моисеевна Пустельник, достаточно безответственно подтвердила такую возможность. А это была уже вторая ошибка!
Как бы то ни было, к необходимому сроку работу свою я сдал. И принялся ожидать (поскольку старался при написании) приглашения на следующий тур, а также, возможно, каких-то призов, грамот, — в общем, публичного признания... Надо сказать, что в конце концов я дождался его. Правда, не совсем того, на которое рассчитывал.
Как выяснилось позднее, моя работа породила сразу несколько проблем. Первая состояла в том, что она не была посвящена ни новой советской Конституции, ни развитому социализму, ни коммунистическим вождям — она была посвящена фашизму. И так и называлась — «Фашизм». Вторая проблема заключалась в том, что в подзаголовке работы стояло: «Пять источников и пять составных частей фашизма». А поскольку все школьники в СССР изучали (и чуть ли не наизусть выучивали) статью В. И. Ленина «Три источника и три составные части марксизма», то возникновение соответствующего ассоциативного ряда у образованных по-советски читателей было обеспечено. Третья проблема обнаружилась в том, что работа не была написана от руки — как у других конкурсантов. Она была напечатана на пишущей машинке. Это сейчас преподаватели предпочитают, чтобы курсовые и дипломные работы их учеников печатались на компьютере. А тогда — тогда было совсем другое время. Более того, в работе я формулировал вопрос, который, по мнению некоторых ее будущих читателей, задавать было нельзя: почему германский фашизм оказался столь популярным у немцев? Наконец, в меру своих сил я пытался ответить на него.
Получив работу и ознакомившись с ее содержанием, моя учительница обществоведения, ничего мне не сказав, действительно отправила мою работу в район — но, правда, не в райотдел народного образования (РОНО), а райотдел Комитета государственной безопасности. Не знаю, что там произошло на самом деле, но по информации, которую я потом получил, в КГБ посмотрели мою работу и, надо отдать им должное, сказали моей бдительной учительнице что-то вроде «не занимайтесь ерундой!». Однако надо отдать должное и моей Раисе Моисеевне: она на этом не успокоилась и пошла в райком партии. Там то ли членом, то ли руководителем совета старых большевиков состоял бывший директор нашей школы Николай Иванович Соболев — человек очень серьезной закалки, хорошо известный в нашем районе как «сталинист». Соскучившись, очевидно, по делам бурной юности, Николай Иванович принялся за расследование моего дела с инициативой, энергией и огоньком.
Расследование велось всерьез, с участием ряда сотрудников райкома (я узнал об этом уже постфактум и, думаю, далеко не всё). Был нанесен визит в районную библиотеку и изучен мой формуляр: какие книги я беру и что читаю. Были сделаны запросы в парткомы организаций, где работали мои родители, — для получения сведений о том, как они ведут себя, что говорят и какие мысли имеют. В конце концов, меня вызвали к завучу школы, где меня уже ждал Николай Иванович. Допрос он устроил с пристрастием (завуч предусмотрительно вышла): «Андрей, я понимаю, ты такой способный... Я хочу тебе добра. Почему ты ссылаешься на «Литературную газету», а не на «Правду»? С кем ты общаешься? Кто тебя надоумил?.. А где ты взял пишущую машинку? Сколько экземпляров напечатал? Кому давал читать работу? Кто еще знает о ее существовании? Не вел ли кто-нибудь с тобой антисоветских разговоров? Тут, знаешь, недавно открыли тайник с антисоветской литературой... Ты знаешь, кто ее спрятал? Ты читал ее?» И так далее в таком же духе. Словом, началось знакомство со сторонами взрослой жизни, про которую на уроках не рассказывали...
— Понятно, что на районный тур конкурса, не говоря уже о городском, республиканском и прочих, Вы уже не попали...
— Разумеется, работа уже больше никуда не пошла. Ее прочитали лишь несколько одноклассников. Но история эта оказалась для меня важной. Бывают вещи, которые, как раньше писали, «проходят красной нитью через всю жизнь».
Университеты
Слава богу, никаких практических последствий ни для меня, ни для моих родителей история эта не имела, — очевидно, времена уже были не те. Я нормально закончил школу (правда, несмотря на все пятерки в аттестате, золотой медали все же не получил), поступил на экономический факультет Ленинградского университета. Но история со школьной работой застряла у меня в голове — чувство, что со мной поступили несправедливо, не проходило. Не буду скрывать, мне хотелось получить и реабилитацию и сатисфакцию. Думал я и о том, чтобы вернуться в один прекрасный день в свою школу, повидаться со своей преподавательницей обществоведения и скромно познакомить ее с признанием, полученным уже в другом месте. Кроме того, в той школьной работе далеко не на все вопросы, важные для меня уже тогда, я смог ответить. А они продолжали меня занимать. И в университете я стал уже на другом уровне заниматься изучением фашизма, фашистской экономики, идеологии, организации общества, стал регулярно писать курсовые работы по германской экономике. Пятый курс я завершил написанием диплома на тему «Военно-государственный монополистический капитализм фашистской Германии».
Когда о своих намерениях я впервые сообщил своему профессору и будущему моему научному руководителю Андрею Андреевичу Демину, он, как мне показалось, несколько напрягся. Но, надо отдать ему должное, в течение всех лет моего обучения и студентом и затем аспирантом он прикрывал меня своим авторитетом. Диплом я защитил у него на пятерку. А несколькими годами позже написал у него же кандидатскую диссертацию, тема которой в переводе на общепонятный язык звучала примерно так: «Государственные финансы развитых капиталистических стран в ХХ веке».
Защита ее оказалась довольно бурной. Выступавшие на заседании члены ученого совета отмечали, что это самая большая кандидатская диссертация на их памяти — вместо традиционных 120–150 было представлено около пятисот страниц в двух томах. Второй том содержал большое количество статистических таблиц — была проведена значительная работа по анализу государственных финансов примерно сорока развитых стран за почти весь ХХ век. Стены аудитории я увешал графиками государственных расходов, вычерченными на миллиметровке. К моему удивлению, реакция на весь этот труд оказалась не совсем такой, на какую я надеялся. Хорошо запомнились слова моего научного оппонента доктора экономических наук, профессора Юрия Васильевича Пашкуса: «Это не марксизм. Это сильная работа, и именно поэтому ее не надо утверждать». Год на дворе стоял 1987-й. Из двенадцати членов Ученого совета восемь проголосовали «за», четверо — «против». Если бы был еще один голос «против», защита не состоялась бы. Возможно, именно поэтому союзный ВА К в Москве еще почти целый год рассматривал мои документы, прежде чем окончательно утвердить результаты голосования.
— И в наших библиотеках Вы могли тогда найти литературу по Вашей теме?
— Смотря какую литературу. Конечно, какой-то части научной литературы в открытом доступе тогда не было — она лежала в спецхране. Это отдельная история — как аспиранты и научные сотрудники того времени доставали необходимые им книги и статьи, как работали с ними. Но часть литературы — пропагандистской и даже не очень пропагандистской, а чисто исторической — была совершенно доступна. Фашизм считался политическим и идеологическим врагом, его позволялось изучать и разоблачать. Однако любой непредвзятый исследователь, начинавший хоть сколько-нибудь серьезно знакомиться с фашизмом, не мог не провести совершенно очевидных параллелей с коммунизмом. И вот тогда надо было (и это уже было делом доблести и геройства) постараться написать текст таким образом, чтобы, не жертвуя объективностью анализа и не теряя совести хотя бы перед самим собой, при неизбежном возникновении опасных параллелей все же не дать повод политическим обвинениям.
— Я помню, как в конце 60-х годов цензура специально ввела применительно к деятельности тогдашнего «Нового мира» понятие «неконтролируемый подтекст». Применение этой формулы не требовало никаких мотивировок и давало право на запрет материала без всяких объяснений. Именно так была «зарублена» публикация в журнале «Преступника номер один» Д. Мельникова и Л. Черной. Правда, позднее эта работа вышла отдельным изданием, но тогда, в 69–70-м, в «Новом мире» она так и не появилась.
— Это, кстати, одна из тех книг о Гитлере, с которыми я тогда много работал. Очень полезная книга...
— И этой своей диссертацией Вы поставили, наконец, точку на теме, начатой когда-то Вашей школьной работой?
— Как сказать. Видимо, не случайно я вспомнил о школьной работе про фашизм. Похоже, эта тема действительно «красной нитью» проходит через мою жизнь. Прошло уже тридцать лет, и вот сейчас в публичных выступлениях мне приходится проводить сравнения между тем режимом и этим — нынешним «нашизмом», рассказывать, что у них общее, а что — различное... Так что судьба, видимо, не случайно придумала этот сюжет и, видимо, не случайно распорядилась так, чтобы Вы попросили меня об этом вспомнить.
— Ну если у Вас в судьбе все так закольцовано, Вы, видимо, все-таки встретились в конце концов со своей учительницей обществоведения. Удалось доказать ей свою правоту?
— Да, это хороший вопрос, потому что история эта закончилась так, как нарочно не придумаешь. Когда я уже и диплом получил, и диссертацию защитил, и пришел вместе с другими выпускниками на очередной юбилей школы, я, естественно, спросил, могу ли я повидать мою любимую Раису Моисеевну Пустельник, сделавшую донос в свое время на меня и моих родителей в КГБ и райком партии. Но мои учителя огорчили меня, сказав, что Раиса Моисеевна уже несколько лет как уехала в Америку, что уехала она в конце 80-х и живет в Нью-Йорке, что до сих пор переписывается с коллегами и не может нахвалиться на Штаты. Пишет, что получила там хорошее социальное пособие, что вылечила зубы, что укрепила здоровье и чувствует себя на двадцать лет моложе, что даже немного путешествует по Штатам и миру. Пишет она совершенно счастливые письма своим коллегам и знакомым, которые остались здесь, о том, как здорово, что она уехала в Америку, что там совершенно другое питание, что она просто летает там. Вернуться? Нет, не собирается, там она совершенно счастлива. Такое вот любопытное завершение сюжета...
— Да, сюжет действительно закольцованный. А как «закольцевалась» Ваша судьба после защиты диссертации?
— После защиты я стал работать ассистентом на кафедре международных экономических отношений ЛГУ. Работа была хорошая, но в интеллектуальном плане было тоскливо — не с кем было обсуждать то, что хотелось обсуждать. Экономический факультет, который я окончил и где работал (наряду с историческим и философским факультетами ЛГУ), был, что называется, «кузницей кадров» Ленинградского обкома партии. Люди там были неплохие, но в политическом и идеологическом плане очень, скажем так, по-советски корректные — обсуждать реальные проблемы страны там было не с кем. Я лихорадочно пытался найти хоть кого-то, с кем можно было бы говорить на интересовавшие меня темы.
Перестройка
И тут мне еще раз сильно повезло — в 1986 году я познакомился с двумя моими сверстниками, недавними выпускниками Финансово-экономического института Борисом Львиным и Андреем Прокофьевым. Общение с ними сильно повлияло на мою жизнь. Тогда времена уже становились другими, наступали перестроечные годы, начиналось общественное движение, становились открытыми разнообразные дискуссии... При Ленинградском дворце молодежи Борис и Андрей создали общественно-политический дискуссионный клуб «Синтез», ставший одним из самых лучших моих университетов. Мне повезло оказаться на одном из первых заседаний этого клуба, затем я стал его членом и, в конце концов, даже вроде как одним из его соорганизаторов.
В «Синтезе» делались доклады и проводились их обсуждения по экономике, истории, по тому, что сейчас называется «политическая теория». Уровень и докладов и обсуждений был очень высоким — по крайней мере, ни в Ленинграде, ни в Москве того времени мне не приходилось участвовать в обсуждениях такого уровня. А в «Синтезе» я встретил хороших ребят, молодых, умных, талантливых. Круг общения с интересными людьми постоянно расширялся. Причем настолько, что в 1990 году по приглашению одного из них — Сергея Александровича Васильева — я перешел из университета в Финансово-экономический институт, с кафедры международных экономических отношений в лабораторию региональных исследований.
— Это было повышение? Карьерный рост?
По тогдашним (и, наверняка, не только по тогдашним) временам шаг этот мог выглядеть совершенно необъяснимым. В статусном рейтинге Ленинградский университет был гораздо выше Финансово-экономического института, международные экономические отношения несопоставимы с региональными исследованиями внутри России, основной преподавательский состав несравним с сотрудниками вспомогательной исследовательской лаборатории. В тогдашней иерархии новое место было существенно менее почетным, по деньгам тоже никакого выигрыша не было. Иными словами, с обыденной точки зрения добровольный выбор падения на несколько статусных порядков выглядел, конечно, совершенно нелепым. Но все перевешивали два «небольших фактора»: во-первых, лабораторию возглавлял один из талантливейших российских экономистов Сергей Васильев и, во-вторых, ее сотрудники профессионально занимались анализом реальных экономических процессов, а затем и подготовкой грядущих экономических реформ. Дело в том, что к тому времени лаборатория уже несколько лет служила одним из опорных пунктов московско-ленинградского кружка экономистов.
Истоки
Я познакомился с членами этого кружка в 1986–1987 годах. Но сама группа в зачаточном виде существовала как минимум с 1979 года. У кружка было два корня — ленинградский и московский.
В Москве группа начала формировалась на основе отдела Института системных исследований, в котором тогда работали четыре молодых сотрудника — Егор Гайдар, Петр Авен, Олег Ананьин и Вячеслав Широнин. Был и пятый человек, но в силу, насколько мне известно, личного конфликта этот пятый был вычеркнут из списков группы и, как мы теперь видим, и из «списков истории». Позже к этой четверке стали присоединяться и другие москвичи.
Петербургский кружок возник — по крайней мере, согласно сложившемуся апокрифу — в 1979 году на «картошке» (была такая практика — направлять студентов с молодыми преподавателями и аспирантами на сельхозработы). И вот, как повествует легенда, где-то на картофельной борозде под Ленинградом осенью 1979 года встретились трое молодых людей — тогдашних сотрудников Инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти — Григорий Глазков, Юрий Ярмагаев и Анатолий Чубайс. Встретились — и заспорили они о том, как совершенствовать хозяйственный механизм социалистической экономики. И вопрос был не праздным, и повод был неслучайным.
Только что был опубликован важнейший для экономистов того времени документ — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о совершенствовании хозяйственного механизма. Естественно, страна в лице шахтеров и ткачих единодушно его поддержала. Экономисты официальные тоже в долгу не остались. А вот экономисты неофициальные попытались разобраться, что бы это значило. Постепенно круг обсуждавших эту и смежные проблемы расширялся, и, вернувшись с картошки, участники этого кружка влились в Клуб молодых ученых Ленинградского инженерно-экономического института, чуть позже его и возглавив. Пусть небольшой, но все же административный ресурс дал возможность проводить семинары, устраивать конференции, выпускать сборники. Главное направление исследований в течение длительного времени оставалось прежним — как улучшить хозяйственный механизм социализма.
Ленинградская часть кружка постепенно расширялась — в том числе за счет Сергея Васильева, Бориса Львина, Андрея Прокофьева, Михаила Дмитриева из Ленинградского финансово-экономического института, Сергея Игнатьева из Торгового института, Петра Филиппова и других экономистов. Это был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на профессиональном экономическом языке.
Установление контакта между московской и ленинградской частями будущего кружка произошло благодаря Григорию Юрьевичу Глазкову. В 1982 году он поехал в аспирантуру в Москву, в Институт экономики АН СССР. Кроме того, у него было такое «партийное задание» — найти в Москве людей, думающих на те же темы, в том же ключе, эволюция взглядов и представлений которых была близка к тому, что происходило и в ленинградской группе. Обойдя в Москве и исследовательские, и академические институты, он убедился, что практически единственной группой, находившейся в том же процессе поиска, является группа Гайдара. Контакт был установлен. Через год в командировку в Москву поехал Чубайс, который встретился с Гайдаром. У обоих сразу же возник контакт, переросший и в сотрудничество, и в дружбу, продолжающиеся до настоящего времени.
С этого времени начались регулярные — вначале раз в год, потом дважды и даже чаще — совместные семинары московской и ленинградской групп. На них читались и обсуждались доклады по экономической ситуации и экономической политике, способствовавшие постепенному интеллектуальному, профессиональному и человеческому сближению между двумя частями этого кружка. К тому времени, как в нем появился я, это был уже достаточно сплоченный коллектив, имевший, по крайней мере, некую общность в понимании проблем и подходов к тому, как с этими проблемами иметь дело.
Семинары кружка поочередно проводились то на ленинградской территории, то на московской. Круг участников постепенно расширялся. В середине 1980-х годов были установлены контакты с экономическими социологами из Новосибирска — Симоном Кордонским и Сергеем Павленко. Однако, к немалому разочарованию участников кружка, расширение круга единомышленников, несмотря на интенсивные попытки, происходило медленно и найти кого бы то ни было в других городах фактически не удалось.
Летом 1986 года состоялась легендарная конференция в «Змеинке» — пансионате ЛФЭИ «Змеиная горка» на Карельском перешейке. В ее рамках получил своеобразное оформление и определенный статус семинар московско-ленинградского кружка по вопросам реформирования социалистической экономики. К тому времени я уже был знаком с некоторыми участниками этого семинара, хотя на самой «Змеинке» не был. Клуб «Синтез», про который я уже говорил, был по сути молодежной секцией московско-ленинградского кружка экономистов. Весной 1987 года я стал членом и «взрослого» кружка.
С перехода в лабораторию региональных исследований ЛФЭИ у меня начался новый этап жизни. Анализ экономической ситуации стал дополняться выработкой предложений для экономической политики, разработкой экономических реформ. В 1990 году вместе с коллегами я принимал участие в подготовке концепции Ленинградской зоны свободного предпринимательства — по заказу Анатолия Чубайса, ставшего тогда заместителем председателя исполкома.
После провала путча в августе 1991 года в ноябре 91-го было сформировано новое правительство. В нем пост вице-премьера, ответственного за экономические реформы, получил Егор Гайдар, один из руководителей нашего кружка. Тогда была объявлена своего рода «всеобщая мобилизация» в исполнительную власть всех, кто хоть что-то понимал в современной экономике, кто был в состоянии внести содержательный вклад в разработку экономической политики. К этой работе были привлечены и многие из экономистов, входивших в наш кружок, некоторые из них заняли заметные позиции в исполнительной власти.
К этому времени я, правда, находился не в Москве и даже не в Петербурге — я был в Англии. В 1991 году в Ленинграде впервые прошел конкурс Британского совета (того самого, отделения которого в Петербурге и Екатеринбурге сейчас закрыли) на право получения образования в Британии. В течение многих лет, как и миллионы моих сограждан, я был вынужден заниматься насквозь идеологизированной марксистской политической экономией, имевшей слабое отношение к реальной экономике. Как и многие молодые люди в нашей стране, я болезненно переживал отсутствие классического образования, мечтал учиться в нормальном западном университете. Поэтому в конкурсе Британского совета я участвовал с энтузиазмом и надеждой. И, победив в нем, в числе первых десяти счастливчиков в сентябре 1991 года поехал учиться в Британию, в Бирмингемский университет.
1992-й
Но учиться в Англии, к сожалению, я смог недолго. В самом начале 1992 года меня все-таки «призвали» в исполнительную власть. Темным, пронзительно холодным вечером 8 января я прилетел в Москву. Намерения были четкие — через месяц-два вернуться учиться, тем более что Британский совет в порядке исключения продлил мне возможность обучения еще на год. Однако в апреле 1992 года меня пригласили на пост заместителя директора Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ. Это была новая структура, мозговой центр, призванный подсказывать правительству, что надо делать, а чего — не надо. Когда наступил сентябрь 92-го и надо было вновь уезжать в Англию, я, понимая, что в России происходят исторические события, решил остаться еще на год. Так что моя мечта получить нормальное образование в западном университете, видимо, так и останется мечтой.
— Ее заменила «проза жизни» — Вам пришлось войти во власть... Ну и какова она показалась Вам на вкус, эта проза?
— Очень разной. Это ведь тоже очень непростая история. Точнее, истории.
Гайдар
Про начало экономических реформ сказано и написано немало. Я не буду повторять, что в целом хорошо известно. Скажу только, что заслуги Гайдара в запуске рыночного механизма, ликвидации угрозы реального голода в стране, восстановлении минимальной работоспособности практически парализованного госаппарата в 1992 году трудно переоценить. В то же время никто не сделал для дискредитации либерализма в идеологии и на практике больше, чем Гайдар.
— Разъясните, пожалуйста, Вашу точку зрения.
— Вклад Егора Гайдара в современную жизнь России огромен. Он сделал две главные вещи: легализовал рыночные отношения в стране и минимум на поколение уничтожил политическую и общественную поддержку либералов и демократов. Повторю еще раз: для дискредитации либерализма никто не сделал больше, чем Егор Гайдар вместе со своим коллегой, товарищем и другом Анатолием Чубайсом.
Мне не очень просто говорить о них обоих, поскольку в течение многих лет мы были близкими коллегами, товарищами, друзьями. В то же время в течение долгих лет по многим вопросам у нас шла порой очень жесткая непубличная дискуссия. Многократно обращался я к ним с просьбами, предложениями, призывами не делать, с моей точки зрения, ошибочных, недопустимых шагов. Многократно обращался я к ним с призывами признать сделанные ошибки — чтобы и с себя грех снять, и других предупредить, и самим не повторять содеянного. Но, увы, ни тот, ни другой не оказались в состоянии ни отказаться от неверных действий, ни провести честный разговор со своими сторонниками, коллегами, с самими собой.
Более того, против меня, как и против очень многих приличных людей, некоторых из которых сегодня уже нет — Галины Старовойтовой, Сергея Юшенкова, — неоднократно развертывались грязные кампании. Может быть, я слишком долго, недопустимо долго молчал. Сохранять публичное молчание и сегодня означало бы покрывать ошибки, приведшие, как мы теперь видим, к преступлениям. И против отдельных людей, и против сторонников либерализма и демократии в нашей стране, и против всей страны. Люди должны знать, как мы пришли к сегодняшнему дню и кто какой вклад внес в наше «сегодня».
От времени Советского Союза Гайдар унаследовал весьма разбалансированную финансовую систему. Во второй половине 1980-х годов бюджетный дефицит вырос с примерно 2% ВВП в 1985 году до 8% в 1990 году. В 1991 году он, очевидно, вырос до 12 % ВВП. Говорю «очевидно», потому что официальные цифры назвать невозможно, так как окончательные обороты по государственным финансам 1991 года так и не были проведены. Не были проведены они по распоряжению Гайдара, бывшего тогда вице-премьером и министром финансов России. Поэтому, строго говоря, мы так и не знаем, как закончился Советский Союз в финансовом отношении. Все, что есть сегодня, — это оценки. Более или менее точные, но — оценки. И, видимо, теперь мы уже никогда и не узнаем, какими были по официальной отчетности доходы и расходы СССР в последний год его существования.
Задача, какая стояла бы перед любым правительством, оказавшимся в ситуации бюджетного кризиса, была очевидной — сократить бюджетный дефицит, добиться финансовой и макроэкономической стабилизации. Задача эта в течение нескольких лет до ноября 1991 года многократно обсуждалась на семинарах нашего экономического кружка. На эту тему было подготовлено немало докладов, написаны статьи, некоторые из них были опубликованы в журнале «Коммунист», редактором экономического отдела которого был Егор Гайдар. В отличие от Г. Явлинского, Е. Гайдар постоянно говорил о необходимости достижения финансовой стабилизации.
И вот он становится министром финансов страны, вице-премьером, а затем де-факто руководителем Правительства России. Что происходит с бюджетным дефицитом? В 1992 году он вырастает почти до 32% ВВП. Тридцать два процента ВВП — цифра немыслимая для государственных финансов мирного времени. В истории, похоже, нет других примеров, когда в мирных условиях наблюдался бы бюджетный дефицит такого размера. Удельный вес государственных расходов в ВВП, даже при Н. Рыжкове и В. Павлове находившийся на уровне 52 — 55%, в 1992 году при Гайдаре подпрыгнул до 71% ВВП. При одновременном падении государственных доходов до 39% ВВП образовалась гигантская дыра бюджетного дефицита, профинансировать которую никаким иным образом, кроме печатного станка, было невозможно.
Поэтому неизбежными стали указания правительства Центральному банку кредитовать и Российское правительство, и правительства государств рублевой зоны. ЦБ находился тогда в подчинении правительства, и решение об эмиссии необеспеченных денег принимало именно правительство. Темпы прироста денежной массы достигли 25% в месяц уже в июне 1992 года — еще до прихода в Центробанк Виктора Геращенко. Придя в банк, Геращенко, правда, поддержал такую политику. Но объективности ради надо признать: начал ее все-таки не он — начал ее Гайдар. И за катастрофическую финансовую дестабилизацию 1992 года, увы, ответственность несет тоже Гайдар и гайдаровское правительство.
Если денежная масса растет на 25% ежемесячно, то неизбежным результатом становится и 25%-я инфляция. Временной лаг между денежной эмиссией и инфляцией в России 1992 года составлял четыре месяца. Поэтому с уровня в чуть более 8% в августе инфляция поднялась до почти 12% в сентябре 1992 года и 23% в октябре. В последующие четыре месяца она устойчиво держалась на уровне 25% в месяц. В таких условиях правительства не выживают. В свое время Джон Мейнард Кейнс точно подметил, что инфляция — одно из самых эффективных средств по свержению правительств. На примере России 1992 года это правило было убедительно продемонстрировано еще раз.
Инфляционная волна, созданная усилиями Гайдара, смыла и его, и его правительство. 14 декабря 1992 года Б. Ельцин чуть ли не со слезами на глазах был вынужден отправить Гайдара в отставку и предложить Съезду народных депутатов В. Черномырдина. Съезд поддержал Черномырдина на «ура».
Развязав в 1992 году инфляцию, Гайдар, по сути, подписал себе политический приговор. Увы, не только себе. Инфляция, смывшая его правительство, — это, конечно же, плата и за политическую и за человеческую слабость.
Черномырдин
Четырнадцатого декабря 1992 года президент Ельцин отправил Гайдара в отставку. Со словами «нам нужен рынок, а не базар» пришел Черномырдин. Первым его экономическим решением стало регулирование цен на продовольствие. С Черномырдиным аппарат правительства наводнили граждане в серых костюмах, с серыми лицами, с серыми взглядами. Атмосфера в правительстве изменилась радикально. В общем, мне стало ясно, что надо было не оставаться в Москве, а ехать учиться. И я вновь начал готовиться к продолжению образования.
Но тут как на грех заболел Сергей Александрович Васильев, руководивший Рабочим центром экономических реформ, и в течение нескольких недель обязанности руководителя центра пали на меня. А Черномырдин в это время стал знакомиться с доставшимся ему хозяйством, с правительственным аппаратом, с людьми, оставшимися ему от предшественника. Так мы с ним и познакомились. Дело в том, что в гайдаровском правительстве статус руководителя Рабочего центра был достаточно высоким. Он по должности приглашался на заседания правительства и участвовал во многих совещаниях по отдельным вопросам.
Одно из таких совещаний проходило в конце 1992 года на государственной даче в Волынском (соседняя с дачей Сталина в Кунцеве). Собралось человек пятнадцать; из тех, кого помню, были Е. Ясин, Я. Уринсон, И. Липсиц, А. Чубайс, С. Колесников, Н. Масленников. Черномырдин спрашивал мнения участников совещания об экономической ситуации, и каждый в течение 5–10 минут говорил о своем — о том, что нужно и чего не надо делать. Совещание запомнилось беспрецедентной по резкости атакой Чубайса на Игоря Липсица, приглашенного Ясиным. Из-за разных взглядов на приватизацию Чубайс потребовал изгнания Липсица с заседания и недопущения его в дальнейшем на любые правительственные совещания. Черномырдин был зримо шокирован нападками, но, верный своему бюрократическому чутью, поддаваться на давление сразу не стал. На том обсуждении Липсиц остался, но в дальнейшем ни на совещаниях, ни в правительстве его я больше не видел.
Из всех присутствовавших я был самым юным и по возрасту и по административному положению, а в очереди на комментарии, кажется, предпоследним. Когда дело дошло до меня, я сказал, что главная вещь сейчас — инфляция, переходящая в стадию гиперинфляции. Если ее не остановить, то она сметет любое правительство — так же, как уже смела правительство Гайдара. Надо сказать, что ни одна из затронутых тем не заинтересовала Черномырдина так, как тема инфляции и гиперинфляции. Делая вид, что позабыл обо всех остальных, он принялся расспрашивать меня о том, что происходит с инфляцией и откуда она берется. Заметив, что именно интересует нового премьера, и другие участники совещания стали вставлять свои комментарии. Черномырдин выслушивал их молча и чуть ли не демонстративно затем от них отворачивался, продолжая свои расспросы. Так мы с ним и проговорили, наверное, с полчаса в присутствии остальных...
— Ну и как прореагировали на это остальные?
— Понятно, что большого восторга у моих старших товарищей это не вызвало. Конкуренция за внимание нового премьера — вещь вполне обычная: каждый старается показать себя с лучшей стороны и оказаться (показаться) наиболее нужным. Естественно, в любой бюрократической структуре во время смены начальства люди боятся, что могут быть «выметены» «новой метлой». Для себя я все уже решил — из правительства ухожу, делать мне здесь больше нечего, поеду продолжать учиться. Демонстрировать Черномырдину особенный пиетет мне тоже не было никакого смысла. Я думал: Васильева сейчас нет, надо выполнить свой товарищеский долг, а вернется Васильев из больницы — сдам ему дела и спокойно уеду в Англию. И поэтому говорил то, что считал нужным, вел себя, наверное, несколько более свободно, чем позволял известный Черномырдину советский бюрократический этикет.
Эффект от этого оказался тем не менее неожиданным. Когда совещание закончилось, Черномырдин всех отпустил, а меня попросил остаться — чуть ли не как в популярном фильме («А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!»). Вдвоем с ним мы проговорили, наверное, еще час, если не больше. За окном уже точно было за полночь. Но в тот момент ему явно хотелось поговорить, и мы говорили на разные темы — и экономические, и неэкономические. Потом я еще несколько раз встречался с ним на разных совещаниях, отношения в общем сложились довольно приличные, по бюрократическим меркам это был своего рода honeymoon, медовый месяц его ко мне интереса.
— Всего лишь месяц?..
— Естественно, такое не могло продолжаться бесконечно: аппаратная конкуренция — вещь малосимпатичная и далеко не сентиментальная. Пришедшие с Черномырдиным серые граждане месяца через полтора-два начали весьма эффективно душить наш Рабочий центр, бюрократических способов для этого есть миллионы. Поскольку у меня установился некоторый личный контакт с премьером, я несколько раз пытался воспользоваться этой возможностью для спасения организации. Увы, ни одна из попыток успехом не увенчалась — в приемной сообщали, что Черномырдину все передано, но тот не демонстрировал никакого желания встречаться. В общем, через некоторое время стало ясно, что дело здесь не в интригах помощников, а в позиции самого премьера.
Ну что уж тут поделаешь? Так я еще раз получил неоспоримое подтверждение, что был прав в своем решении и что действительно пора ехать учиться. Васильев, слава богу, вернулся из больницы, и мне уже не надо было замещать его на бесконечных и быстро становившихся маловразумительными совещаниях.
— И что же — уехали?
— Нет, не получилось. Видимо, это тоже какой-то символ в моей жизни — стремление к классическому образованию, которое так, наверное, никогда и не осуществится. После первого и неполного года обучения в Бирмингеме я вот уже шестнадцать лет в Москве. Как раз тогда, когда я собрался опять поехать в Англию, произошло новое событие в моей жизни...
Референдум
Двадцать пятого апреля 1993 года был проведен знаменитый референдум о доверии Ельцину и депутатам. Тот самый — «ДА-ДА-НЕТ-ДА». Доверяете ли Вы Президенту Б. Н. Ельцину? Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации? Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?
Надежд на то, что результаты голосования будут именно такими, как агитировали власти, и народ проголосует «ДА-ДА-НЕТ-ДА», было немного. Накануне референдума среди реформаторской публики были надежды, что Ельцина народ все-таки поддержит. Однако относительно популярности проводившейся экономической политики больших иллюзий не было. Вопросы были сформулированы в основном хасбулатовским Верховным Советом. Референдум проходил через 15 с лишним месяцев после либерализации цен, в среднем за это время темпы инфляции держались на уровне 20% в месяц, накануне референдума они мало чем отличались от предыдущих месяцев. «Шоковая терапия», «мальчики в розовых штанишках», падение производства, нищенские зарплаты, которые к тому же часто и не выплачивались — такой была экономическая ситуация в апреле 1993 года. Политических чудес в таких обстоятельств не бывает. В общем ожидание было, что, поддержав Ельцина лично, народ все же скажет дружное и решительное «НЕТ» проводимой им экономической политике.
Каково же было наше удивление утром 26 апреля, когда выяснилось, что результаты голосования все же оказались именно такими: «ДА-ДА-НЕТ-ДА»! За Ельцина проголосовало почти 59% участников референдума, за экономическую политику — 53%. Превышение числа тех, кто проголосовал по этому пункту «ЗА», над числом тех, кто проголосовал «ПРОТИВ», было наименьшим среди всех вопросов, на которые был получен ответ «ДА» (за переизбрание депутатов проголосовало больше 67%). Тем не менее это было большинство! Кстати говоря, в отличие от сегодняшнего дня тогда не возникало сомнений в честности подсчета голосов. Поскольку власть в стране не была сконцентрирована в одних руках, а распределялась между президентом и Съездом народных депутатов, реальная возможность контроля над результатами референдума у депутатов была явно не меньше, чем у тогдашнего Ельцина. И тем не менее результаты референдума оказались вот такими.
Только-только о них объявили по радио (Интернета тогда еще не было), только-только мы с коллегами начали обсуждать, что бы это могло означать, — с момента объявления прошло, возможно, только минут двадцать — тридцать, как у меня зазвонил телефон: «Андрей Николаевич, вас немедленно вызывает Черномырдин». Я говорю: «Почему меня? Руководитель центра — Васильев, наверное, Васильева надо?» — «Нет, — говорят, — вас». И я отправился к Черномырдину.
В отличие от всех прежних безуспешных попыток попасть к премьеру, в этот раз никаких проблем с проходом не было, никаких задержек — сразу же зовут к нему в кабинет. У него кто-то был. Буквально после двух-трех каких-то незначащих фраз он меня спрашивает о документе, который я безуспешно пытался ему доложить еще пару месяцев назад. Я пытаюсь ему что-то пояснить, что, мол, он был недоступен. А он мне с ходу: «Как? Это я для вас недоступен?! Вы же мой советник, руководитель Группы анализа и планирования при председателе правительства!» Я опешил: «Какой-такой советник? Какая Группа анализа? Я вообще впервые об этом слышу».
Дальше разыгрывается такая замечательная театральная сценка. Черномырдин: «Как?! Как это вы не знаете? Вы давно назначены! Петелин!» Входит начальник секретариата Петелин. Черномырдин ему: «Петелин, где распоряжение на Илларионова?» Понятное дело, никакого распоряжения нет, но Петелин, человек бывалый, хорошей такой бюрократической закалки, сразу же смекнул, куда клонит шеф, и говорит: «Да-да, давно уже все сделано!» — «Ну давай его сюда!» Петелин исчезает за дверью, но бумагу, естественно, не несет — ее ж готовить надо.
Вот так без моего согласия 26 апреля 1993 года я был назначен руководителем Группы анализа и планирования при Правительстве России, советником Черномырдина. Такая вот получилась история. Были, как известно, дети лейтенанта Шмидта. А теперь вот появилось дитя референдума 25 апреля 1993 года...
— Понятно. Так закончилась история с Вашими попытками отправиться в Бирмингем. Вместо этого Вы стали советником Черномырдина. И какие же плоды принес этот новый виток Вашего вхождения во власть?
— Ясно, что ни большого понимания со стороны премьера, ни значительного желания следовать моим советам, ни существенной поддержки с его стороны не было. Просто по результатам референдума Черномырдину надо было сделать какой-то заметный жест. Тогда много говорили, что Черномырдин — фигура временная, переходная, на три месяца — и все, а дальше опять вернется Гайдар. Да и результаты референдума, казалось, убедительно говорили за немедленное возвращение Гайдара. Но Черномырдин, будучи человеком бюрократически опытным, решил обойтись малой кровью, откупиться малой ценой. Вместо возвращения Гайдара на премьерское кресло, вместо назначения какого-нибудь реформаторски настроенного человека на вице-премьерский или министерский пост он назначил себе советника, по определению самостоятельных решений не принимающего. На тот момент он решил, что обыграл Ельцина.
«Ульяновское чудо»
Первые три месяца работы с премьером оказались относительно нормальными. В мае 93-го Черномырдин вернулся из поездки в Ульяновск с сильными впечатлениями и решительными намерениями. Тогда Ульяновская область оставалась заповедником почти нетронутого коммунизма. Региональная власть была в руках местных партийцев, руководителем области оставался бывший первый секретарь обкома КПСС Ю. Горячев. Поскольку цены на продукты там сохранялись регулируемыми и, следовательно, заниженными, у соседей было огромное желание отовариваться именно в Ульяновске. Естественным следствием этого ценового регулирования стало установление милицейских кордонов на дорогах. На шоссе, на железнодорожном транспорте, на пристанях дежурила милиция, ГАИ, проверяли, что везут люди. Естественно, на все продукты с регулируемыми ценами были установлены карточки...
Черномырдину очень понравилось у Горячева и, вернувшись из Ульяновска сильно вдохновленным, он сказал мне: «Готовьте постановление о социальном регулировании. Будем во всей стране делать так же, как в Ульяновске». Тогда я предложил: «Давайте я съезжу посмотрю, как там все устроено, и тогда уж будем смотреть, как распространять, так сказать, ульяновский эксперимент». Он согласился: «Хорошо». И я поехал изучать «ульяновское чудо».
Мне было важно, чтобы там я оказался не один, чтобы со мной поехал кто-то еще, достаточно авторитетный для Черномырдина. С немалым трудом я уговорил Евгения Григорьевича Ясина. Об этом — специальная история, но в другой раз. Как бы то ни было, полетели мы вместе в Ульяновск.
Впечатления, конечно, незабываемые... Встреча местными властями важных персон из Москвы — отдельный рассказ: кормежки, выпивки, приглашения поехать туда, сюда, посмотреть то, посмотреть это... В общем, история, ждущая современных Гоголей и Щедриных. По прилете в аэропорт: «Вы устали — вот тут зал VIP, давайте зайдем, поедим. Вы же проголодались» (перелет до Ульяновска занимает часа полтора — стало быть, завтрак в Москве, завтрак на борту самолета). Я говорю: «Да не проголодались мы. Хочу на улицу пойти, посмотреть». — «Что вы, что вы, ни в коем случае!»
Приехали в областную администрацию, там нас встречают еще радушнее: «Вы устали с дороги, проголодались, надо пообедать. Вот тут рыбка, балычки, икорка». Надо заметить, все продукты в администрации — без карточек. И тут уже стало ясно, что это не тактика — это стратегия. Поездка-то однодневная, то есть прилетаешь утром, а вечером летишь обратно. Понятно, что у тебя не остается главного — времени: твое время в буквальном смысле попросту съедается.
В общем, только часа через три после прилета с немалым трудом нам удалось заняться делами. Провели совещание, «сняли показания» с сотрудников администрации, расспросили, что и как они тут делают. И картина того, что они там вытворяли, стала совершенно очевидной. Я после этого говорю: «Хорошо, я пойду город посмотрю». — «Нет, говорят, сейчас надо поесть». Тут, признаться, мне чуть было не стало плохо. Я стал уже вырываться, они меня — удерживать. Я за моральной поддержкой к Ясину: «Евгений Григорьевич! Пойдемте в город!» А он мне: «Неудобно, люди приглашают, давайте немножко посидим, поедим». Время летит лихорадочно, я понимаю, что нужны решительные меры и говорю: «Ладно, вы тут ешьте, а я пошел». И — ушел.
Конечно, от преследования оторваться мне не удалось, но тем не менее по нескольким магазинам Ульяновска пройти все же смог. Посмотрел, как у них снабжение продуктами организовано. Смотрю: сахара нет, вместо сахара — конфеты-подушечки, кажется, граммов по 400 на человека в месяц выдают. Посмотрел на колбасу, — господи, о такой колбасе я уже не то что стал забывать, я такой, наверное, никогда в жизни не видел — это была вареная колбаса с зелеными кругами внутри... И она лежала в центральном, самом престижном, магазине Ульяновска, ее продавали по карточкам, и жители за нее бились! Когда я увидел все это своими глазами... все же рассказывай не рассказывай, а пока сам не увидишь, не поймешь... Колбаса с зелеными кругами — это сильное зрелище. В Москве в это время уже постепенно наступало колбасно-сырное изобилие, а тут...
Тут решил я гражданок в магазине спросить, мол, как они к карточкам относятся. А они только начинают мне отвечать: «Ой, мила-а-й! Это ж такая ж...», — как взгляд их скользит мне за спину, — а там размещаются четверо молодцев из местной администрации с та-а-акими убедительными выражениями на физиономиях... Тут мои бабушки тон враз меняют и продолжают таким хорошо поставленным голосом: «Ой, у нас все хорошо, у нас все очень-очень хорошо». Ну, собственно говоря, все тут стало ясно...
Уже на вылете в аэропорту ко мне подходит начальник ульяновского авиаотряда и передает письмо для Черномырдина с просьбой посодействовать в приобретении четырех самолетов. Я говорю: «Подождите секундочку, есть традиционная схема запроса средств из бюджета. Есть стандартная процедура — обращайтесь в министерство, там рассмотрят, при чем тут я? Я не имею к этому никакого отношения». — «Не-не-не, вы только передайте Виктору Степановичу». В общем, отказываюсь я, отказываюсь, начальник отряда настаивает, пилот команды на вылет не получает, самолет не взлетает, люди в самолете сидят, ждут. В общем, взял я это письмо, но думаю: Черномырдин такими мелочами заниматься точно не будет — даст команду в аппарат передать, а там и похоронят.
Когда прилетел, доложил Черномырдину обо всем, что, с моей точки зрения, надо бы сделать относительно «ульяновского эксперимента». Сказал что-то типа: если он, Черномырдин хочет совершить политический суицид, то вернее способ трудно найти — сделать во всей стране так, как в Ульяновске. (Написал я и соответствующий доклад. А кроме того, сделал несколько публикаций про «ульяновский эксперимент» и «ульяновское чудо».) Черномырдин слушал меня, страшно морщился, кривился, но распространять «передовой ульяновский опыт» все же не стал. В итоге идея о распространении в 1993 году на всю страну продуктовых карточек потихонечку умерла.
Заканчивая доклад премьеру, я сказал: «Мне очень неудобно, глупость какая-то... Но тут вручили письмо по самолетам для вас... Я вам сейчас говорю об этом, но, конечно же, не вам этими проблемами заниматься, это ж не та процедура. Я оставлю письмо в аппарате». И пошел было к двери. А Черномырдин тут внезапно и говорит: «Постой-постой, письмо-то давай сюда». Я был просто убит. Как я корил потом себя — вот, совсем наивный, ну просто ребенок! Месяца полтора спустя увидел в официальной рассылке распоряжение правительства о выделении бюджетных средств на эти самые самолеты...
— Андрей Николаевич, но ведь даже и для тех времен это было уже не так удивительно. Хотя факт, конечно, интересный.
— Да, немало было интересного. Так, кстати, и прояснилась серьезность намерений премьера по борьбе с инфляцией.
Ответный удар
В июле 1993-го случилась денежная реформа, организованная руководителем Центрального банка В. В. Геращенко.
Денежная реформа июля 1993 года по обмену старых купюр на купюры нового образца стала одним из мощных экономических и политических ударов по новой власти. Естественно, она не была согласована ни с министром финансов Федоровым, ни с премьером Черномырдиным, ни с президентом Ельциным. Она и не могла быть с ними согласована, поскольку во многом была против них и направлена. Геращенко готовил свою диверсию втайне и совершил ее самостоятельно, прекрасно понимая ее возможные последствия. Это был своего рода «их» ответ на победу Ельцина на апрельском референдуме.
Кроме чисто политических, у Геращенко были и иные резоны для срочного проведения денежной реформы. Дело в том, что, когда в 1993 году Центробанк приступил к постепенной замене старых банкнот на новые, анализ данных по эмиссии новых купюр и изъятию старых показал, что количество официально изъятых из оборота купюр превысило количество официально эмитированных денег на сумму, эквивалентную по господствовавшему тогда валютному курсу сумме примерно в два миллиарда долларов.
Представьте себе: начиная с 1 января 61-го года, т. е. с начала эмиссии денежных купюр предшествующего образца, ежедневно фиксируется статистика эмиссии наличности — за все 1960-е, 1970-е, 1980-е годы... — повторяю: ежедневно, вплоть до 25 июля 1993 года. Выпускаются новые купюры, изымаются ветхие — все аккуратно подсчитывается. И вот, когда начинается изъятие из оборота всех купюр, выпущенных за 32 года, вдруг выясняется, что их уже изъято на два миллиарда долларов больше, чем их было официально эмитировано! И при этом далеко еще не все купюры изъяты, их еще немало в обороте и в России и в странах рублевой зоны.
То есть это означает, что происходила теневая эмиссия банкнот, не зафиксированная официальной статистикой Центрального банка. Как они были распределены, кому переданы — об этом можно только догадываться. Еще раз говорю: это чистые деньги, тут даже приватизации нефтяного или газового фонтанов не надо! Это самые настоящие, не фальшивые, реальные деньги, и на эти деньги можно купить все, что угодно, — дачи, землю, предприятия, заводы, ту же самую нефть, золото. Их можно вложить во что угодно, можно обменять на доллары, можно положить в банки здесь и за рубежом. Их можно инвестировать в политику. Два миллиарда долларов... По уровню тех цен — это огромные деньги: весь российский ВВП в предшествовавшем 1992 году составлял около девяноста миллиардов долларов. Два процента от национального ВВП — это лишь только то, что успели оценить. А сколько еще не успели, так и осталось неизвестным...
Когда в июне 1993 года Геращенко был приглашен в Верховный Совет для отчета, второй, кажется, вопрос, заданный ему кем-то из депутатов, так и прозвучал: «Как это у вас получается, что из наличного оборота изъято купюр больше, чем официально было эмитировано Центробанком?» Геращенко то ли закашлялся, то ли засморкался, то ли пот со лба платочком стал вытирать. Обсуждение его выступления только начиналось, и ожидалось, что депутаты зададут Геращенко десятка два или три вопросов. Но Руслан Имранович Хасбулатов, умнейший, надо сказать, человек, тут же все понял и немедленно заявил: «Спасибо большое, Виктор Владимирович, садитесь на место, мы заканчиваем обсуждение».
— И что — никто и не пикнул?..
— Да нет — обсуждение, понятно, не состоялось. А Центральный банк совершенно случайно, конечно, с этого момента статистику о банкнотах, изъятых из оборота, перестал публиковать. С тех пор ЦБ больше уже никогда не публиковал этих данных.
Центробанк под руководством Геращенко активно участвовал в финансировании рублевой зоны, то есть в безвозмездной передаче средств дружественным режимам за пределами России. Размеры субсидирования в наличной и безналичной форме Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Казахстану, Азербайджану составляли совершенно фантастические цифры — до 20–30% ВВП этих стран. Нельзя исключить, что часть этих средств, возможно даже большая, возвратилась в Россию. Правда, уже как частные средства и уже «правильным» людям. Масштаб операций, осуществлявшихся тогда, по-видимому, не имеет аналогов даже в фантастической истории нашей страны.
— Ну как ж?! У нас уже светлейший Меншиков воровал — дальше некуда.
— Да что Вы! Меншиков по сравнению с ними — просто ребенок! Во времена Меншикова все казенные расходы не превышали и 5% ВВП. И Меншиков мог присвоить себе вряд ли больше сотой доли от казенных расходов — то есть просто крохи по нынешним масштабам. А в наше время хищения приобрели совсем другой размах... Только в 1992 году и только так называемые кредиты странам рублевой зоны составили 8% ВВП. А это чистое, ну просто незамутненное присвоение национального богатства. Куда уж тут Меншикову!
Моя попытка объяснить Черномырдину, к каким катастрофическим последствиям ведет денежная реформа для страны и лично для него, успехом не увенчалась. Пообещав мне «решить проблему» Геращенко, Черномырдин ничего делать не стал. У него были свои соображения...
Геращенко
Денежную реформу Виктор Владимирович Геращенко сделал не по неведению. Высококлассный сотрудник спецслужб с более чем сорокалетним стажем, он сыграл исключительную роль в истории нашей страны. После начала карьеры в Госбанке СССР и Внешторгбанке СССР в течение трех лет он был руководителем Московского народного банка в Лондоне. Затем пять лет — руководителем Московского народного банка в Бейруте. После двухлетнего перерыва в Москве он был отправлен на Дальний Восток — руководителем управления Московского народного банка в Сингапуре. Можно представить, чем занимались и что финансировали совзагранбанки в то время...
По возвращении в Москву Геращенко быстро поднялся по ступенькам руководства Внешэкономбанка СССР, а затем возглавил Госбанк СССР. На этом посту он стал организатором и исполнителем денежной реформы 1991 года, лишь по традиции (и явной ошибке) именуемой «павловской». Просто В. С. Павлов, будучи, очевидно, менее опытным, чем Геращенко, слишком много говорил о ней, в то время как истинный организатор крупнейшей позднесоветской экономической аферы остался в тени. Наконец, исчезновение в 1991 году валютных резервов Госбанка СССР тоже вряд ли могло произойти без участия его руководителя. Вместе с ликвидацией СССР был ликвидирован и Госбанк СССР, а Геращенко ушел в негосударственный сектор. Однако оставался он там недолго.
В июне 1992 года встал вопрос о замене руководителя Банка России Матюхина, который, как считал тогда Гайдар, не соответствовал новым требованиям. Казалось, кадровое решение было предрешено. Очевидным кандидатом выглядел Борис Федоров — молодой, грамотный, энергичный экономист, имевший, несмотря на свой возраст, серьезный практический и политический опыт. Он рано стал союзником Б. Ельцина, в первом Российском правительстве 1990 года был министром финансов, а затем, в 1991–1992 годах, работал российским представителем в Европейском банке реконструкции и развития. Федоров не скрывал своей заинтересованности в том, чтобы стать руководителем Центробанка.
Описать масштабы шока от указа Ельцина, тем не менее назначившего председателем Центробанка России Виктора Геращенко, я не берусь. Это примерно то же самое, как если бы руководителем бундесбанка в 1946 году был бы назначен Яльмар Шахт, бывший президентом рейхсбанка при Гитлере. Как выяснилось, Ельцин инициативы по назначению Геращенко не проявлял (что в общем-то было вполне ожидаемо), все полномочия по кадровым вопросам в экономической сфере он отдал Гайдару. Именно по рекомендации Гайдара на ключевой пост по осуществлению денежной и финансовой политики — руководителя национального банка — был назначен не Борис Федоров, а Виктор Геращенко — убежденный коммунист, сотрудник спецслужб с солидным стажем, организатор денежной реформы 1991 года, один из ключевых авторов советской экономической катастрофы 91-го — начала 92-го года, один из авторов банкротства СССР, Внешэкономбанка СССР, исчезновения советских валютных резервов.
На новом старом посту Виктор Геращенко не стал терять времени. Получив вновь в руки такой мощный и эффективный ресурс, как Центральный банк, он сделал все возможное для того, чтобы поддержать развязанную правительством Гайдара инфляцию. В отличие от Гайдара, он, очевидно, лучше помнил слова Дж. М. Кейнса о том, что инфляция — самое эффективное средство по свержению правительства. И пользовался он этим инструментом, надо сказать, весьма умело.
Темпы прироста денежной массы, достигшие в июне 1992 года 25% в месяц, в течение четырех последующих месяцев уже не опускались ниже этого уровня. Но темпы инфляции были еще относительно невысокими — в июле они составили около 8%. Тогда в августе 1992 года Геращенко произвел долговой взаимозачет, неожиданно поддержанный Чубайсом, в результате которого в экономику влилась огромная сумма денег. Вследствие всего этого с сентября 1992 года ежемесячные темпы инфляции вышли на уровень 25% в месяц и в последующие восемь месяцев уже не опускались ниже 20%. Развязанная правительством Гайдара и поддержанная Геращенко инфляционная волна смела и самого Гайдара, и его правительство.
— А имело ли смысл спасать такое правительство?
— Гайдаровское правительство было далеким от совершенства, количество совершенных им ошибок было велико. Тем не менее в нем было немало людей, включая и самого Гайдара, кто не только понимал необходимость реформ, но и пытался их проводить. В отличие от тех, кто был уволен или ушел сам, А.Чубайс в правительстве остался.
Поддерживая инфляцию и подрывая политический ресурс гайдаровского правительства, Геращенко работал все же ради достижения своей главной цели — свержения Ельцина. Для Геращенко, его друзей и коллег Ельцин был абсолютным врагом. Они ненавидели Ельцина за все, что тот успел сделать, — за победу над КПСС, за «развал» СССР, за отлучение от власти спецслужб. Этой своей искренней, глубокой, всеохватывающей ненависти Геращенко никогда не скрывал, работая против Ельцина тщательно, неустанно и вдохновенно. (Должен сказать, забегая вперед, что после смерти Ельцина в апреле 2007 года Геращенко, как мне кажется, как-то потерял кураж.)
А потом наступил октябрь 93-го года. Ельцин выпустил указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», прекращающий деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Но Геращенко успел все же поучаствовать в финансировании оппозиции: свежеотпечатанная наличность на нескольких грузовиках успела доехать до Белого дома и была роздана белодомовским формированиям.
Федоров
Когда Геращенко проводил денежную реформу, министром финансов был Борис Григорьевич Федоров. Финансовая стабилизация — борьба за снижение инфляции была одной из главных тем 1993 года. Роль Федорова в приближении финансовой стабилизации в стране трудно переоценить. За первые полгода 1993 года он смог сделать невероятно много — сокращение государственных расходов, снижение субсидий, уменьшение масштабов коррупции, повышение процентной ставки. И тут — денежная реформа! Это был такой удар по всему, что им делалось! Причем с практически нескрываемым расчетом на соответствующие политические последствия.
В день объявления денежной реформы Федорова не было в Москве — он был в отпуске. Узнав о реформе, он гнал машину несколько сот миль до ближайшего аэропорта, чтобы первым же самолетом прилететь в Москву. Прилетев, он тут же созвал пресс-конференцию, которую при небывалом стечении журналистов начал с простой и емкой фразы: «Виновным в денежной реформе является только и исключительно Виктор Владимирович Геращенко! — Потом подождал немного и продолжил: — Для тех, кто не услышал, повторяю еще раз: Виктор Владимирович Геращенко! — Выждал паузу и еще раз: — Для тех, кто не расслышал или не понял, повторяю еще раз: Виктор Владимирович Геращенко!»
За тот год, что Борис Федоров был министром финансов, против него работали практически все — Геращенко, отраслевые министры, Черномырдин, Верховный Совет; фактически не было большой поддержки и со стороны Ельцина. С возвращением в правительство на пост первого вице-премьера в сентябре 1993 года против Федорова начал работать и Гайдар. То, что Федорову удалось сделать, вообще-то немыслимо не только для одного человека, но и для правительства, пользующегося значительной политической поддержкой. Но он смог это сделать практически в одиночку.
После октябрьских событий — штурма и расстрела Белого дома — политическая ситуация значительно изменилась. Борис Федоров смог использовать ее, и в октябре — декабре 1993 года ему удалось продолжить радикальное сокращение бюджетных субсидий и ликвидацию излишних государственных расходов. За 1993 год Федоров сделал совершенно невероятную вещь: сократив государственные расходы на 22% ВВП за один год, он практически полностью ликвидировал чудовищный развал государственных финансов, спровоцированный крахом СССР в 1991 году и усугубленный Гайдаром в 1992 году. Бюджетный дефицит был сокращен до 10% ВВП, выйдя, таким образом, на догайдаровский и даже допавловский уровень.
Темпы денежной эмиссии стали медленно снижаться, а за ними — с постепенно увеличивавшимся лагом — и темпы инфляции. В декабре 1993 года инфляция упала до 13%. После январского скачка в 18% в феврале 1994 года она опустилась до 11% в месяц. В течение почти всего следующего года она уже не выходили за десятипроцентную отметку. Но для Федорова это было уже поздно — он смог увидеть плоды трудов своих только со стороны — 20 января 1994 года он был вынужден уйти в отставку.
Дело в том, что в декабре 1993-го прошли выборы в Государственную думу, на которых с огромным перевесом победила ЛДПР Жириновского. На «встрече нового политического года», транслировавшегося по телевидению, прозвучали ставшие знаменитыми слова: «Россия, ты одурела». Воспользовавшись новой политической ситуацией, Черномырдин развернул полномасштабное бюрократическое наступление: 5 января 1994 года в отставку ушел Гайдар, 20 января — Федоров, 8 февраля в отставку ушел и я.
Геращенко остался в Центробанке еще на 9 месяцев — чтобы успеть нанести еще один удар по Ельцину, организовав не без помощи А. Чубайса «черный вторник» 11 октября 1994 года — падение за одну торговую сессию курса рубля более чем на 30%. Однако, похоже, запас терпения Ельцина к тому времени иссяк, защищать Геращенко в правительстве было больше некому, и Геращенко был уволен из Центробанка. Однако, как показали дальнейшие события, история его борьбы против Ельцина на этом не закончилась.
Отставка
Восьмого февраля 1994 года я ушел из правительства. За предыдущие полгода мы с Виктором Степановичем Черномырдиным встречались всего трижды — сразу же после денежной реформы 26 июля 1993 года, в ночь перед штурмом Белого дома с 3 на 4 октября 1993 года, в ночь после парламентских выборов 13 декабря 1993 года. Только в кризисных ситуациях у премьера обнаруживались время и желание общаться со своим советником. В мирной, спокойной ситуации времени у него для этого не было.
Как-то раз мне надо было срочно обсудить с ним какой-то вопрос по экономической политике. Неоднократные мои попытки получить аудиенцию наталкивались на глухую стену сопротивления сотрудников приемной. Тогда, не полностью исключая обычные бюрократические интриги, я решил поставить эксперимент — дай, думаю, подожду встречи непосредственно в приемной. Дай, думаю, проверим, сколько времени советнику премьера нужно подождать в приемной, чтобы встретиться со своим непосредственным начальником для обсуждения срочного вопроса. Я рассуждал так: во-первых, если я буду сидеть в приемной, Черномырдину не смогут не сообщить, кто его ждет; во-вторых, он сам может выйти в приемную и увидеть меня. А увидев, не сможет не спросить, в чем причина моего появления здесь. Узнав же, в чем причина, он не сможет отказаться от обсуждения проблемы.
И каким же наивным я продолжал оставаться после почти двух лет работы в бюрократическом аппарате! В приемной я провел около пяти часов. Тысячу раз говорил себе: все, больше не могу, надо уходить, оставаться в приемной и видеть все, что там происходит, совершенно невозможно. Но внутренний голос все же твердил: давай все-таки эксперимент доведем до конца. В кабинет входили и из него выходили десятки человек — большинство людей мне незнакомых, то есть это были и не министры, не сотрудники аппарата правительства. Многие явно выглядели приезжими. Заносили свертки, коробки, какие-то пакеты. Несколько раз выходил Черномырдин. Увидев меня, сказал только: «Потом». И вправду — мои дела (то есть вопросы экономической политики) были в тот момент для премьера гораздо менее срочными и несопоставимо менее важными.
В тот момент к премьеру приехала группа товарищей с Ижевского оружейного завода и привезла Черномырдину большую коллекцию охотничьего и спортивного оружия. Для осмотра и отбора приглянувшихся экземпляров Черномырдин проследовал в соседнюю комнату, и часа два оттуда раздавались шум, хохот, звон посуды... В общем, в тот раз встреча с премьером так и не состоялась. Не состоялась она ни на следующий день, ни в последующие недели и месяцы. Государственные дела, очевидно, не пускали.
— Но три-то раза он Вас все-таки принял?..
— Да, и каждая из трех встреч, происходивших в кризисные моменты российской истории, памятна по-особому. Каждая из них давала новые подтверждения тому, что события, происходящие в политической и экономической жизни страны, мы оцениваем весьма по-разному. Порой обмен мнениями между нами был достаточно эмоциональным. На каждой из этих встреч речь заходила в том числе и о Геращенко, и о его бесценном вкладе в дестабилизацию положения в стране. И каждый раз было видно, что вот именно это Черномырдина совершенно не интересует.
В общем, делать в правительстве Черномырдина мне было нечего. Никакого спроса на советы не было. Никакого интереса в проведении разумной экономической политики не было. Тягомотное состояние стало быстро проясняться после декабрьских парламентских выборов, на которых наибольшее количество голосов получила ЛДПР (23%). Хотя «Выбор России» во главе с действовавшими в правительстве вице-премьерами и министрами Гайдаром, Федоровым, Чубайсом (15% голосов), ПРЕС во главе с Шахраем (4%) и другие центристские партии набирали достаточное количество голосов для того, чтобы сформировать проправительственную коалицию в парламенте с большинством голосов, Черномырдину это явно было не нужно. Резко отмежевавшись от коллег по кабинету, Черномырдин заявил сразу же: «Кто у нас там победил? Жириновский? Вот с ним и будем работать».
Под бюрократическим давлением 5 января 1994 года с поста первого вице-премьера ушел Гайдар, 20 января — с поста вице-премьера и министра финансов — Федоров. 6 февраля подал заявление об отставке и я. Виктор Степанович решил сделать мне на память что-нибудь приятное, и через два дня в моей трудовой книжке появилась запись: «Уволен за нарушение трудовой дисциплины».
Институт
Надо было решать, что делать дальше. В принципе больших сомнений не было: надо ехать учиться. И я вновь стал собираться в Англию. Но учебный год начинается в сентябре, и приходилось ждать еще больше полугода. Было обидно за потерянное время. Были пропущены уже три года — 1991, 1992, 1993-й. Я решил больше времени не терять и начал оформлять документы на 1994 год.
Но тут появился Джеффри Сакс. Сакс был профессором Гарварда и весьма активным консультантом по проведению экономических реформ во многих странах мира — от Боливии до Польши. В декабре 1991 года наряду с четырьмя другими зарубежными экономистами он в течение часа встречался с Б. Ельциным, что позволило ему впоследствии в течение ряда лет утверждать, что он является советником российского президента.
Сакс со своими студентами и аспирантами оказал существенную помощь в экономическом образовании российских чиновников на раннем этапе проведения реформ. Одной из организаций, созданных с его помощью для анализа текущей ситуации и подготовки экономических решений, была Группа макроэкономического и финансового анализа, работавшая при Минфине. После ухода Б. Федорова из правительства группа потеряла заказчика, сотрудники начали ее покидать. Сакс, бывший научным координатором группы, предложил мне ее возглавить.
Я подумал и ответил: «Группу при Минфине возглавлять не буду. Надо создавать институт. Независимый институт, который будет заниматься экономическим анализом. Сотрудники, работающие в группе, могут прийти в него». Он подумал и говорит: «Интересно». В общем, с помощью Сакса, существенно помогшего в организации и получении первых денег, в июле 1994 года был создан Институт экономического анализа. Мы начали работать, сделали несколько неплохих публикаций.
Через год Саксу не понравилось направление научных исследований, и он решил заменить директора института на другого человека — Михаила Дмитриева, приглашенного мною ранее на пост моего заместителя. Сакс поставил условие: раз он обеспечил финансирование, значит, он и будет командовать. Михаил проявил в этом деле большую заинтересованность и активность. Так как по Уставу назначение директора находится в ведении наблюдательного совета института, я ответил: «Как решит наблюдательный совет, так и будет». Сакс стал шантажировать: «Если не будет назначен Дмитриев, фонд Форда потребует возвращения денег». — «На каком основании?», — спрашиваю. «А потому что я так считаю правильным». И действительно, фонд Форда написал мне, что я должен уйти с поста, иначе они заберут деньги. Тут же они прислали и своего представителя — наблюдать за процессом.
На внеочередное заседание собрался наблюдательный совет института. Накануне Чубайс, бывший также членом наблюдательного совета, разослал всем коллегам письмо, в котором заявил, что политика ликвидации бюджетного дефицита, рекомендуемая мной, является коммунистической и фашистской. Коллеги ознакомились с ситуацией. Поинтересовались, что я собираюсь делать. Я сказал, что полагаю важным, чтобы институт продолжал работать, чтобы институт был российским, что к пожеланиям наших зарубежных коллег отношусь хорошо, к шантажу — плохо. Проголосовали по кадровому вопросу. За исключением Чубайса коллеги единодушно проголосовали за сохранение на посту прежнего директора.
Фонд Форда потребовал возвращения выделенного на два года гранта. Институт вернул ему все неиспользованные к тому времени деньги. Возвращенных денег было немногим меньше миллиона долларов. Так прекратились наши отношения с Саксом и фондом Форда. Когда это произошло, сотрудники фонда Форда были в шоке — ни в истории этого фонда, ни в истории других подобного рода фондов не было случая, чтобы организация, получившая деньги, по каким бы то ни было причинам возвращала их обратно.
А дальше началась наша самостоятельная жизнь. Честно говоря, она была очень непростой. С деньгами было трудно. В течение какого-то времени институт жил на мои собственные средства. Через некоторое время у меня закончились мои деньги, и месяца два или три мы жили вообще без денег, на одном доверии: я прошу — люди делают.
— Это какой год — 95-й?
— Это был уже 1996 год. В какой-то момент сотрудники стали говорить: «Мы тебя уважаем, работать интересно, но семьи кормить тоже надо»... Я попросил еще месяц подождать. К этому времени удалось найти деньги, сначала — небольшие, потом — побольше. Через какое-то время финансирование более или менее нормализовалось. Потом постепенно выплатили людям задолженность по зарплате...
Основной работой института были комментарии по текущей экономической политике. Выпустили три книги. В 1997–1998 годах институт стал практически единственным публичным голосом в России, предупреждавшим страну о неизбежности валютного кризиса. Развязка наступила в августе 1998 года.
В августе 1998-го
До 10 часов утра 17 августа 1998 года, когда на экранах российских телевизоров со словами «об изменении границ валютного коридора» появились премьер-министр Сергей Кириенко и глава Центрального банка Сергей Дубинин, слова «девальвация» официальные комментаторы старались избегать. Но поскольку страна была тогда еще достаточно демократической, некоторые граждане все же позволяли себе такую смелость.
То, что Россия не избежит финансового кризиса, стало ясно осенью 1997 года. Развитие валютных кризисов в азиатских странах показало, что в России есть похожие условия, но, кроме того, есть и кое-что еще, чего в азиатских странах не было. За зиму 1997–1998 года ситуация заметно ухудшилась. Процентные ставки по обслуживанию государственного долга постоянно росли, достигая совершенно невероятных величин — 50–60% годовых при 10% инфляции. Реальная ставка в 40% годовых — может ли быть аргумент, более убедительно свидетельствующий о тяжелом нездоровье финансов? Однако для тех, кто занимался инсайдерской игрой с государственными облигациями с гарантированной ставкой получения дохода, такая ситуация была просто сказочной.
Двадцать третьего марта 1998 года Б. Ельцин отправил в отставку правительство Черномырдина и предложил на пост премьера Сергея Кириенко. Ему рекомендовали меня в качестве кандидата в экономические советники, и в тот же день мы встретились в Белом доме.
В качестве первого шага на посту премьера я предложил Кириенко девальвировать рубль. «Рубль будет девальвирован, — говорил ему я, — рано или поздно. И это бесспорно. Что подлежит обсуждению — сроки, когда он будет девальвирован. И масштабы. Если девальвацию отложить, то она все равно состоится. Но только глубина ее будет больше. А политические последствия — серьезнее. Сергей Владиленович, — убеждал я, — у вас сейчас есть исторический шанс. Если вы девальвируете рубль сразу, как станете премьером, аккуратно и без паники, то вы не только спасете страну, но и не несете политической ответственности за это. Все же понимают, что в создании нынешней экономической ситуации, при которой девальвация стала неизбежной, виноваты не вы, а политика предыдущего кабинета. Девальвация никоим образом не бросает тени лично на вас — вы лишь разгребаете завалы, оставленные вашим предшественником. Но если вы не проведете девальвацию немедленно и отложите ее, если вы ее проведете хотя бы через полгода, то это несомненно будет уже ваша вина, и в качестве платы за нее в отставку уйдете и вы и ваше правительство. Если вы не хотите быть сметены грядущим кризисом, делайте девальвацию немедленно». Мы разговаривали с Кириенко примерно час, и, казалось, он явно стал проникаться пониманием ситуации.
Тут приехали Гайдар с Чубайсом и, прямо скажем, сильно не обрадовались, увидав меня. Они потребовали разговора с Кириенко наедине. Цель их разговора была очевидной, да и подтверждения долго ждать не пришлось: Кириенко так и не решился на контролируемую девальвацию. Его советником я тоже не стал.
— Что же такое наговорили они премьеру?
— Не знаю, но думаю, они объясняли Кириенко, что никакой девальвации проводить не надо, что ее не будет, что необходимые средства для стабилизации финансовой ситуации будут получены в МВФ. Как известно, многое потом так и получилось. Правда, не все. После утверждения Кириенко премьером и в результате олигархического лоббирования Чубайс был назначен специальным полномочным представителем Российского правительства по переговорам с международными организациями. В конце июня 1998 года он действительно договорился со Стенли Фишером, первым заместителем МВФ, о получении кредитного пакета размером в 24 млрд долларов.
Первые 4,8 млрд долларов поступили в Россию в начале июля 1998 года. Как выяснилось, впервые за всю историю взаимоотношений МВФ с Россией (да и, кажется, с большинством других стран-реципиентов) эти средства были переданы не в Минфин, а в Центральный банк. Спросите — какая разница?
— Спросим...
— Большая. Партнерами МВФ являются правительства, представителями которых являются министерства финансов. Центральные банки не являются представителями национальных правительств, они имеют специальный статус, по закону независимы от национальных правительств, не обязаны выполнять правительственные поручения и не несут ответственности по правительственным обязательствам. Таким образом, представитель Российского правительства договорился о передаче со стороны МВФ средств Центробанку, строго говоря, перед Российским правительством не отвечающему. Причем это было сделано в разгар финансового кризиса, когда у Российского правительства не хватало средств для обслуживания своего собственного долга! Спрашивается: для кого и на кого работал этот полномочный представитель Российского правительства?
Ситуация становится еще более невероятной, когда выясняется, что полученные средства Центробанк под руководством Дубинина не использовал для интервенций на валютном рынке, чтобы сдерживать атаки на рубль. Спрашивается: а на что же пошли средства? Оказывается, государственные средства (средства МВФ, полученные путем увеличения российского государственного долга) были розданы некоторым крупным российским банкам для того, чтобы закрыть провалы в их балансах. Иными словами, за счет средств российского государства Чубайс с Дубининым просубсидировали самых «слабых» и «нищих» в России — своих друзей-олигархов.
Из первого транша в 4,8 млрд долларов именно такой оказалась судьба 3,8 млрд. В конечном счете попал в Минфин лишь один, последний, миллиард долларов — да и то только в августе. И произошло это вовсе не потому, что спохватилось Российское правительство. Нет, спохватился Стенли Фишер, сорванный из своего отпуска где-то на Карибах, прилетевший в начале августа в пустую Москву и буквально в ультимативном порядке потребовавший передачи этого миллиарда от Центробанка в Минфин. Спохватился Джордж Сорос, опубликовавший в «Файненшел Таймс» статью, в которой только что не кричал, что Россия летит в тартарары и ее надо спасать, формируя дополнительный кредитный пакет, на первых порах хотя бы в размере еще 15 млрд долларов. О России в том августе беспокоились лишь Джордж Сорос и Стенли Фишер. Именно они бросились разыскивать российское руководство в августе 1998 года.
Но это было непросто. Чубайс в это время отдыхал, кажется, в Ирландии, Гайдара в Москве не было, министра финансов Задорнова к решениям не допускали. Дубинин сопротивлялся изо всех сил, пытаясь не отдавать Минфину МВФовский миллиард.
Мои призывы к Кириенко провести контролируемую девальвацию были связаны прежде всего с тем, чтобы минимизировать ее неизбежный экономический ущерб для людей. Но не только с этим. Кроме этого, я имел в виду и минимизацию ожидавшегося политического ущерба. В том числе путем спасения правительства. Надо прямо сказать, правительство Кириенко было малокомпетентным. Однако последствия смены этого правительства в результате девальвации могли быть неприятными не только для членов правительства.
Что в принципе могло произойти в условиях неконтролируемой девальвации национальной валюты, только что продемонстрировал пример Индонезии, в которой обвал рупии сопровождался падением в мае 1998 года правительства и свержением президента Сухарто. В Джакарте начались нападения на предпринимателей, банки, магазины, рестораны; пошли грабежи, поджоги и, наконец, резня, в которой погибло более трех тысяч человек. О том, что могло произойти в России в случае повторения в какой-либо степени индонезийского сценария, не хотелось даже думать. То, что судьба правительства и руководства Центробанка предрешена, было совершенно ясно. Честно говоря, и большого сочувствия они не вызывали. Серьезные опасения вызывали последствия возможного свержения Ельцина.
За пять лет октябрьские события 1993 года не забылись, красно-коричневый реванш в случае неизбежного политического кризиса обещал стране хорошую кровавую баню. А по известному российскому опыту, на трех тысячах жертв, как в Джакарте, могли и не остановиться. Тут уж никому бы мало не показалось. И кто какую роль играл или не играл — большого значения уже не имело бы.
— Да уж, тогда бы и Вас не обошли: а ты-то куда глядел? Почему страну не спас?
— В те весенние и летние месяцы я безуспешно пытался убедить в необходимости срочных действий и правительство и сотрудников МВФ. Не раз обсуждал проблему со Стенли Фишером, одним из авторов концепции финансовой стабилизации с помощью фиксации валютного курса, одного из вдохновителей политики «валютного коридора» в России в 1995–1998 годах, приведшей к краху 17 августа. Попытки в течение четырех лет объяснить порочность политики «валютного коридора», поддерживавшейся фондом, оказались тщетными.
В начале июня 1998 года, оказавшись на семинаре в Киеве, организованном Мировым банком, пытался убедить в принятии срочных мер Джона Одлинга-Сми, руководителя Второго Европейского департамента МВФ, занимавшегося Россией. Если не считать Фишера, Одлинг-Сми был фактически главным человеком МВФ по России, формировавшим и формулировавшим позицию фонда относительно нашей страны. В споре о возможной девальвации наши позиции оказались противоположными. Я говорю: «У нас будет девальвация». Одлинг: «Нет, девальвации не будет». Я снова: «Джон, будет девальвация». Он: «Нет, не будет». Я ему тогда: «Давайте поспорим. Я не могу назвать точной даты, но до конца 1998 года кризис точно произойдет. Причем чем дольше он откладывается, тем более глубоким будет». Мы поспорили — на ящик коньяка. После кризиса Джон сделал вид, что спора не было.
А вот Стенли Фишер свою ошибку постарался исправить. В апреле следующего, 1999 года, выступая на весеннем заседании членов совета директоров МВФ, он мягко признал непригодность своей собственной концепции, МВФ снял соответствующий пункт из пакета своих рекомендаций и больше к нему не возвращался.
Я продолжал говорить, что девальвация неизбежна. И возникало такое странное ощущение: пытаешься что-то сделать, объяснить властям предержащим, как спасти страну, как спасти даже правительство это, и — ничего, никакого результата. Правда, недели через две после того, как меня попросили рассказать о кризисе в президентской администрации, один из знакомых банкиров сказал мне: «А вы знаете, что сделали такой-то, такой-то и такой-то? — и называет фамилии участников той встречи со мной в администрации. — Они, — говорит, — все свои рублевые сбережения перевели в доллары». Вот как! То есть и стране и мне они говорили, что девальвации не будет, что они не допустят ее. А сами, лично, в это же самое время к ней очень хорошо готовились!
— То есть на всякий случай они к Вам все-таки прислушались?
— Получается, что да. Для себя! Гайдар, помнится, тоже просил меня: только журналистам об этом не говори! Но как только я узнал, что эти деятели по-тихому свои средства в доллары переводят, сказал: «Нет! Вот теперь я точно буду говорить об этом как можно громче и везде, где только возможно, — чтобы услышало как можно больше людей!»
— Вы говорите, что Гайдар просил Вас не говорить журналистам об угрозе дефолта?..
— История была такой. Это было 25 июня 1998 года на заседании клуба «Взаимодействие». Клуб «Взаимодействие» был создан Гайдаром и Чубайсом в 1992 году для развития отношений между реформаторским правительством и российской бизнес-элитой, журналистами, аналитиками. Его членами было немало очень достойных людей, президентом-организатором был Михаил Матыцин. Клуб регулярно — примерно раз в месяц — проводил встречи с кем-то из представителей власти. Поскольку летом 1998 года в воздухе явно носилось ощущение чего-то надвигающегося (правда, про катастрофу не говорили), то на заседание клуба был приглашен Гайдар, чтобы рассказать правду о том, что происходит, и дать ответ на вопрос, будет ли кризис или нет. На заседании был аншлаг — пришло, наверное, человек 150 — сливки либеральной общественности, бизнеса, журналистики.
Гайдар выступал в течение минут сорока, сказав примерно следующее: да, ситуация не совсем простая, но кризиса не будет. Мы все держим под контролем, инфляция снижается, вот сейчас Чубайс съездил в МВФ, получил большой кредит, так что все в порядке, не беспокойтесь. Переживем. Трудно было не поверить Гайдару. Не то чтобы полностью исчезли все сомнения, но уровень напряженности стал постепенно снижаться.
Вторым в прениях слово дали мне. Хотя по регламенту надо было задавать вопрос, вместо него я сделал небольшое собственное выступление — такой содоклад минут на пятнадцать — двадцать. Я сказал, что слова Гайдара не соответствуют действительности. Ни один из факторов, названных им и якобы препятствующих кризису, не работает. Зато работают другие факторы, о которых он ничего не сказал. Кредиты МВФ не помогут, в лучшем случае оттянут начало кризиса, но увеличат его масштаб. Будет кризис. Будет девальвация рубля. Хотя точные сроки предсказать невозможно, но кризис произойдет до конца 1998 года. Если, говорю, девальвацию проводить в июле, то курс рубля упадет раза в два с половиной — рублей до 15 за доллар (в июне курс был чуть больше 6 рублей за доллар). Если оттягивать девальвацию, то курс может упасть вчетверо — до 24–25 рублей за доллар. В то время как экономические последствия девальвации будут обещающими — возрастет экспорт, улучшится платежный баланс, возрастет занятость, упадет безработица, на чнется экономический рост, политические ее последствия могут оказаться очень тяжелыми. Гайдар не стал дожидаться завершения моего выступления, собрал свои бумаги и ушел.
На следующий день, 26 июня, у меня была встреча в отеле «Балчуг». У моего визави зазвонил мобильный телефон (у меня мобильного телефона тогда не было, он был еще достаточно редкой и весьма дорогой вещью. По крайней мере, для меня). Такое бывает, наверное, в фильмах, подумалось мне, потому что оказалось, что по телефону моего собеседника спрашивали меня. Как? Каким образом? Кто узнал, с кем я встречаюсь? И где нашли номер телефона? Ничего особенного не придумав, я взял трубку. В трубке я услышал голос Гайдара: «Андрей, ты знаешь, я тебя мало о чем просил. У меня к тебе есть просьба». Я сказал: «Да, я слушаю тебя» — «Я тебя прошу: все, что ты рассказывал вчера на клубе, не говори, пожалуйста, журналистам». Я был потрясен: «Почему?» — «Ну, знаешь, бывают вещи, которые говорить публично нельзя». Я говорю: «Я таких вещей не знаю». Он повторяет: «Ты знаешь, я тебя мало о чем просил. А сейчас я действительно прошу: не говори, пожалуйста, ничего об этом журналистам». Тогда я ему сказал: «Знаешь, Егор, я не могу выполнить твою просьбу. Я считаю, что то, что происходит сейчас в экономике и финансах, не просто важно, а чрезвычайно важно, жизненно важно. Для всей страны. И я просто обязан об этом говорить. Это первое, почему я не могу выполнить твою просьбу. А второе — твоя просьба запоздала. Я уже рассказал все это журналистам».
Это было сущей правдой, потому что утром того же дня у меня прошла пресс-конференция, на которой я довольно подробно рассказывал о природе надвигающегося кризиса, о его механизме, о сроках и возможных масштабах девальвации. Поскольку заседание клуба было закрытым, то, по сути, я повторял свое выступление на клубе. О том, что утром прошла пресс-конференция, Гайдар не знал. Тогда он сказал: «А-а, ну тогда ладно».
На следующий день в газетах был короткий рассказ о моем прогнозе с детальными комментариями со стороны представителей власти, что никакой девальвации не будет.
В начале июля я оказался на встрече Чубайса с «его командой». Там собралось человек тридцать-сорок, относившихся к его группе, обсуждали текущую экономическую и политическую ситуацию. Дошла очередь до меня, я говорю Чубайсу: «Слушай, какие бы ни были отношения лично между нами, но кризис, который предстоит, сметет всех. Он сметет всех — и тебя тоже. И если кого вешать будут, то тебя не забудут. Если о стране не хочешь позаботиться, о себе подумай». Он выслушал и ответил мне примерно вот так: «Сейчас мы («команда». — А. И.) как никогда сильны. У нас — более половины правительства. Мы полностью держим страну в своих руках. И те, кто говорит о всяких кризисах и девальвациях, несут полную чушь». Я тогда сказал что-то примерно такое: «Гляжу я на вас и изумляюсь: пройдет всего лишь несколько недель или несколько месяцев, и ни вас здесь, ни вашей половины правительства не будет — ни в правительстве, а, возможно, и нигде». Ну, они там посмеялись, похихикали и разошлись...
Июль 1998 года проходил в таких вот интересных дискуссиях. А 2 августа председатель Центробанка Дубинин собрал в Белом доме пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов по поводу ситуации на рынках. Слова «кризис» старались избегать, но ставки по госдолгу уже подскочили до астрономических 160%, каждый новый выпуск ГКО сопровождался горячими обсуждениями — сможет ли правительство профинансировать его обслуживание или нет?
Поскольку память об азиатском кризисе была свежей, пресса волновались: будет ли в России продолжение — или не будет? На конференцию пришло свыше трехсот человек. В большом зале для встреч с журналистами на Краснопресненской набережной выступил Дубинин, сказавший, что все в порядке, ситуация под контролем и никакого кризиса не будет. Кто-то из журналистов спросил его: «А как же, вот Илларионов говорит, что будет девальвация». И тогда Дубинин ответил: «Господин Илларионов лжет. Он нарочно пытается обрушить рубль для того, чтобы его жена, работающая в инвестиционном банке, смогла заработать на падении российской валюты на Чикагской бирже. Он нарочно валит рубль, чтоб заработать на этом».
Позже Ирина Ясина рассказала мне, что решение оклеветать меня было принято накануне той пресс-конференции на совещании руководства Центробанка четырьмя людьми: Дубининым, тогда председателем Центробанка, Алексашенко, первым заместителем руководителя ЦБ, самой Ириной Ясиной, работавшей тогда начальником департамента по работе с прессой и пресс-секретарем Центрального банка, и Денисом Киселевым, руководителем департамента по работе с крупнейшими банками. Семь лет спустя Ясина, единственная из четверки, попросила у меня за это прощения...
То, о чем на пресс-конференции сказал Дубинин, я узнал на следующий день. Тут же сделал заявление, что подаю на господина Дубинина в суд за клевету и нанесение ущерба деловой репутации. Конечно, понадобилось некоторое время, чтобы собрать все материалы, публикации, получить аудио- и видеозаписи. За две недели все материалы были собраны, я договорился с адвокатом и собрался в понедельник подавать заявление в суд. Наступивший понедельник оказался 17 августа 1998 года. В 10 часов утра Дубинин с Кириенко появились на телеэкранах и сообщили об изменении курсовой политики, об отмене обслуживания государственного долга, о запрете на свободу капитальных операций. Иными словами, получалась не только девальвация. К ней прибавились и дефолт, и введение контроля на движение капитала.
— А разве они сами не понимали, что будет девальвация? Почему они не хотели с Вами соглашаться? Или они просто выигрывали время, чтобы соблюсти свои интересы?
— Кто-то понимал. Кто-то не понимал. Кто-то выполнял поручения. Но как бы то ни было, ни один из них даже не пытался подумать о стране, о людях. О своих интересах — другое дело.
— Но говорят, что умные люди все-таки постарались тогда от ГКО поскорее избавиться. Почему же этого не сделали банки?
— Если говорить о тогдашних банкирах, то уровень их некомпетентности был удивительным. Если бы они понимали хотя бы половину того, что им говорили, результаты для них были бы совсем другими, вряд ли бы так пострадали крупнейшие банки. Это же поразительный факт — из 6–7 крупнейших банков лета 1998 года волна кризиса смыла всех, кроме Альфа-банка. И причина проста — единственным человеком, который не поверил тогда Дубинину, Кириенко, Гайдару, Чубайсу, был Авен, президент Альфабанка. Авен, кстати, был на том историческом заседании клуба «Взаимодействие». Из крупнейших российских банков Альфа-банк оказался единственным, кто летом 1998 года не только перестал покупать новые выпуски ГКО, но и постарался большую часть своего пакета ГКО продать, а вырученные средства поместить в доллары.
Кому верили банкиры? Вот этой компании — Дубинину, Чубайсу, Гайдару, Кириенко, убедившим Ельцина дать свое знаменитое опровержение девальвации в Великом Новгороде. Когда он садился в самолет, его спросили: будет ли кризис? «Нет, — ответил Ельцин, — кризиса не будет. Все решено. Никакой девальвации не будет». Это было в пятницу 14 августа, а в понедельник 17-го на экранах появились Дубинин и Кириенко... Эта компания обманула всех: и либеральную общественность, и бизнес, и Ельцина, и всех граждан страны.
— Что ж, выходит, Ваш прогноз блестяще подтвердился...
— Это так. Но никакого триумфального настроения 17 августа у меня не было. У меня было чувство огромной опустошенности. Невероятное чувство сожаления. Я вспоминал свой разговор с Кириенко в самый первый его день появления в Белом доме 23 марта. Тогда он предложил мне работать у него советником, и я согласился — но лишь с единственным условием: если советы мои будут приниматься. Как известно, после приезда Гайдара с Чубайсом вопрос решился сам собой и больше уже не поднимался. И я думал, конечно, о том, что сейчас произойдет в стране и со страной.
А через пять дней сбылся и мой политический прогноз: 22 августа 1998 года Ельцин уволил и Кириенко и Дубинина. После нескольких недель безуспешных попыток снова отдать пост премьера Черномырдину Ельцин был вынужден назначить премьером Примакова, а Геращенко в третий раз занял пост руководителя Центрального банка. Опытные сотрудники спецслужб заняли оба ключевых поста в стране. Незанятым оставался только пост президента. Вклад моих коллег Гайдара и Чубайса в полученный результат переоценить было невозможно.
Деятельностью Дубинина и его друзей заинтересовалась Генеральная прокуратура. Выяснилось, что некоторые сотрудники Центрального банка, включая и Дубинина и Алексашенко, активно участвовали и в покупках ГКО и в валютных операциях на Чикагской бирже. В общем, выяснилось, что Дубинин был неплохо информирован о том, о чем говорил журналистам 2 августа.
В общем, когда у меня были подготовлены документы, чтобы подавать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, прокуратурой уже было заведено уголовное дело на Дубинина, и ему вместе с его коллегами грозили вполне реальные уголовные сроки. И хотя эти люди объективно много чего заслуживали, я решил тогда в суд не подавать. Крови Дубинина я не хотел и просто оставил это дело.
Как часто бывает, ни один хороший поступок не остается безнаказанным. Четыре года спустя в Бостоне на инвестиционном форуме Дубинин, уже оправившийся от прежних страхов и вдохновленный работой вице-президента в чубайсовском РАО ЕЭС, в очередной раз принялся за свое любимое дело — клевету. Горбатого, как известно, только могила исправит...
В каком-то смысле этих четверых, наверное, можно было понять. В самом деле, налицо было драматическое противостояние: с одной стороны, миллиарды долларов и власть — правительство, Центральный банк, Министерство финансов, администрация президента, сам президент, Международный валютный фонд, — и все говорят одно: девальвации не будет. С другой — один человек, директор какого-то маленького института, который упрямо повторяет: нет, девальвация будет! И кому тут прикажете верить?
Удивительно, но после краха 17 августа все-таки обнаружилось немало людей, не забывших, кто что и когда говорил. И потом еще в течение нескольких лет незнакомые люди подходили ко мне на улице, жали руку и говорили: «Спасибо, благодаря вам я спас свои 7 тысяч долларов...» Или: «Я спас свой бизнес...» Или: «Хорошо, что я вам поверил...»
Путин
Августовский кризис сказался и на судьбе страны, и на моей судьбе. В частности, он познакомил меня с Путиным. Первая моя встреча с ним произошла 9 августа 1998 года, в день, когда Путин был назначен руководителем ФСБ.
В тот день я в очередной раз пытался убедить финансовое руководство страны в принятии срочных мер по предотвращению кризиса. Вначале около часа говорил с первым заместителем министра финансов Алексеем Кудриным. Затем вместе с ним отправились к министру финансов Михаилу Задорнову. Повторилась схема, многократно проявившаяся на прежних встречах. Я говорил о том, что кризис неизбежен, о том, почему он неизбежен, и о том, что, с моей точки зрения, надо делать. Мой собеседник вначале говорил, что этого не может быть. Затем соглашался, что что-то в этом есть. Наконец, завершалась встреча практически полным согласием. С Задорновым эта схема в очередной раз повторилась: вначале он советовал не говорить ерунды, потом начал сомневаться, в конце согласился: «Да, может быть» — и спросил, сколько времени осталось до кризиса.
По завершении встречи с Задорновым вместе с Кудриным мы вышли из кабинета в большую приемную, где задержались буквально на минуту-другую. В этот момент в комнату вошел невысокого роста весьма неприметного вида гражданин в немного странном костюме светло-салатного цвета. Когда он появился, Кудрин и еще кто-то, кто был в приемной, стали энергично поздравлять его с его новым назначением. Человек был мне незнаком, но через некоторое время по характеру реплик стало ясно, что это Владимир Путин, которого утром того же дня Ельцин назначил директором ФСБ. Раньше я его никогда не видел. С Кудриным они работали вместе лет пять в петербургской мэрии: Кудрин был заместителем Собчака по экономике и финансам, Путин — по административным и внешним делам.
Меня попросили еще раз — уже для Путина — поведать свои соображения по поводу наступающего кризиса, и я в течение трех или четырех минут опять повторил то, что уже многократно говорил. Путин на это ничего не сказал, не задал ни одного вопроса, вообще никак не прореагировал. На этом мы и расстались.
Второй раз мы встретились 28 февраля 2000 года. За полгода до этого Путина назначили премьером. Началась вторая война в Чечне. В атмосфере сильно запахло серым. Ощущение проводимой спецоперации становилось все явственнее. Но потом стали появляться некоторые обнадеживающие нотки.
В ноябре 1999 года появился Центр стратегических разработок под руководством заместителя Госкомитета по имуществу Германа Грефа, демонстрировавшего свои особые связи с Путиным. Поскольку к этому времени Путин уже был практически гарантированным наследником Ельцина, работа с ЦСР становилась весьма престижной. ЦСР занялся обсуждением практически всех сколько-нибудь значимых вопросов национальной повестки дня. Делал он это, надо отдать должное, на весьма приличном уровне. Эксперты в любых областях считали за честь быть приглашенными на семинары в Александр-хаусе, где размещался ЦСР. На эти семинары Греф стал регулярно звать и меня. Поначалу я отреагировал на эту работу с энтузиазмом. Однако быстро выяснились принципиальные различия с Грефом, откровенно поддерживавшим экспертов, ориентировавшихся на Гайдара и Чубайса. Такая деятельность была неинтересной, и я почти перестал участвовать в работе ЦСР.
Двадцать восьмого февраля 2000 года у меня на работе зазвонил телефон, и человек, позвонивший мне, сказал, что со мной хочет встретиться Путин. К тому времени Путин был уже исполняющим обязанности президента. Тогда ходили слухи, что он ищет советника по экономическим вопросам, что на этот пост рассматриваются разные кандидатуры, в частности Е. Ясин. Меня, честно говоря, это не сильно интересовало. Во-первых, я уже был сыт по горло как работой советника, так и вообще работой в госаппарате. А, во-вторых, в институте мы развернули очень интересную исследовательскую программу, работы над которой хватило бы на несколько лет.
И вот звонит этот человек и говорит, что Путин хочет со мной встретиться. «Когда?» — спрашиваю. «Сегодня», — отвечает. Ну ладно, сегодня так сегодня. Приехали мы в Ново-Огарево, встретились с Путиным. Он спрашивает: «Вы знаете — впереди президентские выборы. Результаты, конечно, никто предсказать не может. Но, если допустить, что удастся победить, какими, на ваш взгляд, должны быть мои первые решения?» Честно говоря, мне понравилась его сдержанность, отсутствие шапкозакидательства. Вместо ответа я его спросил: «А вы чего сами хотите?» Стали мы с ним говорить и проговорили по разным вопросам в общей сложности, наверное, часа три.
Вскоре после начала разговора подходит к нему офицер и передает бумагу. Путин пробежал ее глазами и провозглашает торжествующе: «Только что взяли Шатой! Раскатали их там!» Я не выдержал и сказал то, что думаю по поводу Чечни и по поводу чеченской войны. Что считаю войну неправильной, незаконной, разрушительной, что то, что там делается, является преступлением. Что Чечня должна стать независимой от России, а Россия — от Чечни. Что войной такие вопросы все равно не решишь. Что Чечня все равно уйдет из России, но жертвы уже никогда не вернешь. Я, наверное, не открою большой тайны, если скажу, что у Путина по этому вопросу были и есть другие взгляды. По поводу Чечни и чеченской войны мы спорили больше часа. Глаза Путина стали жесткими, в голосе зазвенел металл, в нем стала чувствоваться ненависть. Терять мне было нечего — я продолжал свое. И тогда Путин вдруг оборвал разговор: «Так, все — больше на эту тему не говорим».
Вернулись к экономике. Время было уже позднее, стали собираться домой. Уже когда надевали куртки, Путин говорит: «Ну что, завтра встречаемся?» Такого поворота я совсем не ожидал и говорю: «Нет, завтра не получится». Он несколько так изумленно: «Почему?» Я отвечаю: «Завтра я не могу».
— Андрей Николаевич, но ведь с властью так не разговаривают...
— Да, вообще с властью так не разговаривают. Особенно в нашей стране. Власть не любит слова «нет». И не хочет его знать. К тому же так не разговаривают с президентами. А в том, что Путин станет президентом, и станет им надолго, ни у кого сомнений не было. И вот без пяти минут президент предлагает встретиться еще раз, а я ему говорю: «Нет». Он спрашивает: «Как — нет?!» И тогда я говорю: «Хорошо, тогда я вам сам скажу, пока другие еще не успели рассказать. У меня завтра особый день, который я обещал провести вместе с женой. Завтра — 29 февраля, это годовщина ее приезда в Россию. Так получилось, что она приехала сюда 29 февраля 1992 года. Поскольку год — високосный, то отметить это событие можно только раз в четыре года. Поэтому, извините, эту дату я пропустить не могу, я обещал жене, что этот день мы проводим вместе. А чтоб уж завершить эту тему, скажу: моя жена — американка, гражданка США». Путин на это ничего не сказал, только зрачки его, как мне показалось, немного расширились. А так он виду не подал. На этом наша встреча закончилась, мы пожали друг другу руки и расстались.
По поводу дальнейшего развития событий у меня никаких иллюзий не было. Я был совершенно спокоен — было ясно, что больше встреч не будет, такие шансы выпадают раз в жизни. Во-первых, взять и наплевать на приглашение фактически будущего президента. Во-вторых, мы же в России живем — не где-нибудь. Президент — сотрудник КГБ, бывший ли, нынешний — какая разница. А у меня жена — гражданка другой страны, причем не Украины и не Финляндии даже, на худой конец, а США... Ну что ж, мы ж понимаем ситуацию — не вчера родились. Ну и взгляды по чеченскому вопросу тоже, очевидно, не способствуют продолжению контактов.
Поэтому с супругой мы замечательно отметили годовщину ее приезда в Россию, причем отметили на «Седьмом небе» в Останкино, где я до этого ни разу не был. А на следующий день на работе я уже совершенно забыл про позавчерашнюю историю. И вот часа в 4 вечера звонит у меня телефон, и тот же человек, что звонил в прошлый раз, говорит, что Путин спрашивает, могу ли я встретиться с ним сегодня.
Честно говоря, такого поворота я совершенно не ожидал. Новых годовщин на тот вечер у меня не планировалось. Поэтому сказал, что могу. Мы встретились и в тот вечер, и на следующий день, и еще через пару дней. И далее пошло. Говорили на разные темы, в основном, конечно, об экономике. В какой-то момент он говорит: «Я хотел бы пригласить вас на пост моего советника». Я говорю: «Спасибо за доверие, но у меня другая работа, я не пойду». Он говорит: «А так встречаться мы можем?» — «Встречаться — пожалуйста».
Советник
Разговоры по поводу необходимой политики, по поводу экономических реформ у нас продолжались. Путин вникал и в новую проблематику, и в необычную для него терминологию. Накануне восьмого марта он поехал в Иваново и выступил там перед женщинами, с праздником их поздравил. Но как-то по-особому. Показывают его встречи по телевизору — я не вполне верю своим ушам: Путин ткачихам рассказывает про экономическую свободу, про либеральную экономическую политику, про ответственность. Видно, что наши беседы даром не прошли. Но — ткачихам! Но на 8 Марта!
В президентской администрации — некоторое замешательство, таких текстов про свободу ему там явно никто не писал. Народ там к словам начальника очень чуткий, начали соображать, откуда такие веяния занесло. А поскольку в стране тех, кто про либерализм публично говорит, в общем немного, то вычислили меня грамотные люди довольно быстро. Начинают звонить, приглашать, спрашивать, что такое экономическая свобода, как об этом надо писать, как говорить, что еще можно упомянуть. Так я начал консультировать коллег в администрации.
Путин стал меня приглашать в поездки с собой по стране в рамках предвыборной кампании. Было любопытно. Вел он себя прилично — не торопился высказываться, слушал, записывал, знакомился с людьми.
Двадцать шестого марта 2000 года Путин был избран президентом. Через несколько дней, кажется это было 30 марта, Путин пригласил меня на экономическое совещание в Белый дом. Совещание происходило в кабинете премьера. Надо отдать Путину должное: он был скрупулезен, бюрократических правил не нарушал и президентским кабинетом в Белом доме, даже будучи уже избранным, но еще не приведенным к присяге, не пользовался. В кабинете премьера собралось семь человек: исполняющий обязанности президента Путин, исполняющий обязанности премьера Касьянов, исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Козак, исполняющий обязанности руководителя администрации президента Волошин, исполняющий обязанности министра финансов Кудрин, руководитель ЦСР Греф и я.
Обсуждали, какую экономическую политику проводить. Путин дал слово Грефу, Греф рассказал про работу над программой, которую уже начинали называть «программой Грефа». Потом Путин дал слово мне. Я рассказывал про то, в чем с Грефом согласен, в чем — нет. Когда прошел, наверное, уже час обсуждения, Путин вдруг спохватился и говорит: «Да, коллеги, я тут не объяснил, кто у нас — кто, потому что мы все тут уже не раз встречались. Только Андрей Николаевич у нас появился впервые. Я хочу сказать, что Андрей Николаевич будет моим экономическим советником».
И вот так, очевидно, наступает момент истины. Дело в том, что предложение стать советником он мне делал, но согласия-то я не давал. С другой стороны, опровергать его, приглашающего меня на такой пост, да еще на глазах у его коллег — дело совершенно неслыханное. Но и промолчать совершенно невозможно. Во-первых, потому что это не так. И в принципе этого уже достаточно. А, во-вторых, потому что во власть я совсем не рвался. Поэтому очень осторожно, тщательно стараясь подбирать приличествующие такой ситуации и как можно более аккуратные слова, медленно проговариваю: «Уважаемый Владимир Владимирович, я очень признателен вам за ваше приглашение на это совещание, за то, что вы предоставили мне возможность высказать свое мнение, за ваше предложение стать вашим советником. Однако, к большому сожалению, такого решения я пока еще не принял. Приношу свои извинения». Повисла тишина...
Описать выражения лиц участников совещания я не берусь. Сказать, что ситуация дико неудобная, — ничего не сказать. Она совершенно неприемлема в бюрократической культуре. Одно дело — отказать руководителю на частной встрече. Другое — на глазах у его коллег и подчиненных, да еще в такой форме. В общем, в очередной раз я подумал, что это последнее совещание, на которое меня пригласили. Но я ошибся.
В Москве продолжались экономические дискуссии — в ЦСР, в правительстве, в администрации. Так получилось, что главным оппонентом у меня все время оказывался Греф. Почти по каждому вопросу у нас обнаруживались разногласия. Очередное обсуждение экономической программы нового президента было запланировано на 11 апреля в первом корпусе Кремля, в президентской библиотеке, в замечательном круглом зале. Совещание было задумано как решающее по определению пути, каким предстоит идти стране. Греф, чувствуя, что ему не удается полностью убедить Путина в своей правоте, потребовал, чтобы на это совещание были приглашены и другие участники подготовки правительственной программы, способные оказать поддержку своему руководителю. Путин был против: «Зачем тебе все эти люди, если ты сам все будешь рассказывать?»
Но Грефу все же удалось уломать службу протокола, и он все же привел с собой пять человек. И вот с одной стороны сидят в качестве рефери: Путин, Волошин, Касьянов, Кудрин, Козак. Напротив них — Герман Греф и еще человек пять, среди которых Евгений Гавриленков, Олег Вьюгин, Михаил Дмитриев, а также я. Путин дал слово Грефу. Тот выступил, а затем попросил заслушать его экспертов: «А сейчас за мной продолжат специалисты, которые разрабатывали соответствующие разделы». И передает слово, кажется, Гавриленкову. Тут Путин говорит: «Нет, сейчас будет Андрей Николаевич». Греф начал спорить: «Ну, хоть Михаила Дмитриева заслушайте». Дмитриев начал говорить. Но Путин отрезал: «Я сказал: нет!» И приглашенные эксперты так и просидели все совещание молча. Путин дал слово мне, после чего сказал, что ему все понятно, и совещание закончилось.
И вот когда после совещания мы выходили из библиотеки, Путин спрашивает меня, не надумал ли я чего-нибудь новенького относительно его предложения. То есть в очередной, третий, раз делает предложение стать его советником. К этому времени я понял, что предложение его действительно является серьезным и продуманным. Мы общаемся с ним уже полтора месяца; я регулярно участвую в обсуждении вопросов экономической политики, формально не занимая никаких постов; Путин явно демонстрирует и искреннюю заинтересованность, и определенное расположение. Более того, я понимаю, что четвертого приглашения уже точно не будет. И, кроме того, ситуация объективно складывается исторически уникальной — видно невооруженным глазом, что власти серьезно настроены делать реформы. И тогда я говорю: «Хорошо, я согласен. Только у меня есть три условия. Если они будут выполнены, тогда я принимаю ваше предложение. А если они выполняться не будут, то не обессудьте — я уйду». Он говорит: «Хорошо» — и дает распоряжение Волошину готовить указ.
Так, на следующий день, 12 апреля 2000 года, в День космонавтики, и состоялось мое назначение. Первое назначение после избрания Путина президентом. Оно вызвало и известный шок, и некоторую эйфорию: взгляды мои в стране были уже достаточно известными. Когда на пост советника президента назначают человека с нескрываемой либеральной позицией, то это, конечно, не может не восприниматься совершенно особенно. Тем более что, несмотря на всякие разговоры про реформы, существовали все же большие опасения, какую политику может проводить сотрудник спецслужб, ставший президентом. В тот же день, 12 апреля, я улетал в Белоруссию на конференцию. В Шереметьево при вылете меня атаковали журналисты с вопросами о том, что произошло и как это понимать. Через два дня по возвращении ситуация повторилась.
Так началась моя работа в качестве советника президента.
— Андрей Николаевич, а почему же Вы так настойчиво отказывались от предложения Путина?
— Поначалу — даже встречаясь с Путиным — я не собирался работать во власти. Больших иллюзий по поводу происходившего в стране осенью 1999 года у меня не было. Конечно, деталей я не знал — большой ясности со взрывами домов тогда не было. Хотя, не буду скрывать, подозрения по поводу того, что на самом деле произошло, были с самого начала. По поводу чеченской войны ясности было гораздо больше. Я считал невозможным помогать людям, ведущим эту войну. Недаром практически первой темой, с какой начались разговоры с Путиным 28 февраля 2000 года, была тема чеченской войны.
С другой стороны, понятно, что работа во власти давала уникальную возможность по осуществлению назревших, перезревших, многократно обещанных, но так и не осуществленных в течение 1990-х годов реформ, прекращению десятилетнего экономического кризиса, восстановлению экономического роста. И вот эта власть, новая власть, собирается теперь осуществлять те самые реформы, о необходимости которых так много говорилось в течение 15 лет, о которых я сам говорил в течение полутора десятилетий. И именно теперь, когда предоставляется возможность что-то сделать, складывать ручки и уходить в сторону? Не буду скрывать — решение идти в советники давалось мне непросто.
Кроме того, в то время я разделял теорию, согласно которой экономический рост, повышение уровня экономического развития страны способствуют укреплению либеральных и демократических институтов. Поэтому получалось, что, работая на экономический рост, в конечном счете работаешь и на развитие и укрепление и современного общества, и современного государства в своей стране.
Наконец, непосредственное общение с Путиным показывало, что с ним можно работать, что он действительно заинтересован в проведении разумной экономической политики. Ну а что касается других сторон... — идеальных людей, как известно, в природе не бывает. Да и кто без греха — пусть первый бросит камень...
— А о каких условиях шла речь, когда Вы принимали назначение? Это были какие-то политические условия?
— Нет, условия были такими. Первое — я нахожусь в советниках до тех пор, пока выполняется программа по осуществлению либеральных реформ, моя программа. Конечно, я хорошо понимал, что реальная политика не обходится без компромиссов, отклонения неизбежны. Тем не менее, если выдерживается в целом либеральный курс, то можно работать. Второе условие — в любое время дня и ночи у меня должен быть доступ к президенту. Если я считаю нужным с ним встретиться или переговорить, то такая связь мне должна быть обеспечена всегда. И третье — у меня не будет никаких ограничений на поездки внутри страны и за рубеж. Если я работаю советником президента России, значит, у меня должен быть открыт доступ к любым данным, к любому знанию, к любой информации, какую я могу и должен получать отовсюду, из всех возможных источников. Советник — это не простой чиновник, это специальный чиновник, часто даже не чиновник. Советник президента — это не соглашатель с президентом, не поддакиватель ему и не безропотный исполнитель любых его поручений. Советник — это в какой-то степени и аналитик и ученый, для которого неотъемлемым условием деятельности является общение с коллегами, в том числе и с зарубежными — на конференциях, семинарах, встречах.
Когда через несколько лет стало ясно, что условия контракта не выполняются, то вопроса уходить — не уходить не было. И я ушел. Причем к концу 2005 года дело было уже не только в том, что либеральная экономическая программа не проводится, не только в том, что возникли проблемы с «доступом к телу», не только в том, что мелкая административная шушера начала бюрократическую войну по поводу того, что я должен или не должен делать, что могу или не могу говорить, куда могу или должен ездить. Главной проблемой было то, во что стала превращаться страна, при полной невозможности противодействия этому из президентской администрации. Единственный остававшийся ресурс — слово — становился все более ограниченным. С лета 2004 года меня занесли в черный список двух главных государственных телеканалов. Забавно, да, — советник президента, которому запрещено выступать на государственном телевидении?
Но даже выступления, какими бы критическими они ни были, уже фактически ничего не меняли. Более того, они начинали посылать ложный сигнал обществу: если на критику нет никакой реакции, а власть продолжает делать то, что делала, то возникают вопросы: а, может быть, это такая договоренность у них во власти, такое разделение труда между добрым и злым полицейскими, может быть, это такая игра у них? По сути дела, получалось довольно циничное использование моего положения и моего имени.
Одно дело — критиковать власть и добиваться того, чтобы она менялась, пусть не во всем, пусть не всегда, пусть медленно, но менялась — в лучшую сторону. Тогда, как бы ни было трудно, во власти можно оставаться. Если же, находясь во власти, критикуешь ее, пытаешься добиться изменений, а ситуация лишь ухудшается, то вопрос встает ребром — надо либо замолчать и «получать удовольствие» от пребывания во власти, либо уходить. Пока была возможность хоть каким-то образом влиять на то, что происходит в стране, пока сохранялся пусть ничтожный, но шанс для помощи людям, в том числе даже и не непосредственно по экономическим вопросам, можно было оставаться. Когда таких возможностей не стало, то оставаться во власти, изображая из себя важную фигуру и решая свои личные вопросы, — это занятие не для меня.
Шерпа
В бюрократической жизни критически важно иметь ресурс, с помощью которого можно что-то делать, проводить решения, осуществлять политику. Размер бюрократического ресурса зависит от должности, статуса, близости к начальнику. Политику можно проводить самому или с помощью соратников, союзников, коллег. У советника по определению нет прямого управленческого ресурса. Его успех в бюрократической жизни зависит от того, будет ли кто-нибудь осуществлять его предложения, и если будет, то кто именно. Если же статус у него есть, но нет бюрократического ресурса, то можно готовить какие угодно интересные советы, делать какие угодно важные предложения, но гарантий осуществления таких советов и предложений нет.
Позиция советника является весьма весомой, но в ней есть свое «но». В административно-бюрократическом плане она значима лишь в той степени, в какой у советника де-факто складываются персональные отношения с тем, кому он советует. В силу сложившихся обстоятельств мой статус, особенно во время первого президентского срока Путина, был достаточно высоким. Ключевые решения по экономическим вопросам принимались с участием членов так называемого экономического совещания. В него входили 6–7 человек — президент, премьер, руководитель администрации, министр финансов, министр экономики, советник по экономическим вопросам и иногда руководитель Центрального банка.
В отличие от своих коллег, советник был единственным членом этого круга, не имевшим непосредственного управленческого ресурса. У министра финансов есть Министерство финансов, у министра экономики есть свое министерство, у руководителя Центрального банка есть Центральный банк, у руководителя администрации есть администрация, у председателя правительства есть правительство, у президента есть всё. У советника, кроме девушек-секретарей в офисе и двух помощников, других ресурсов не было.
В мае 2000 года этот недостаток был частично восполнен назначением меня на должность шерпы, т. е. личного представителя президента в «Большой семерке», клубной организации наиболее развитых и богатых стран планеты. Позиция шерпы была бюрократически уже вполне весомой, поскольку предусматривала исполнение координирующих функций по отношению к министерствам, ведомствам, службам, организациям исполнительной власти в их деятельности по отношению к «семерке».
Россия тогда не являлась полноценным членом этого клуба, в течение предшествовавшего десятилетия никак не желавшего превращаться в «Большую восьмерку». Она находилась на своеобразном «приставном стуле», а встречи клуба проводились по схеме «семь плюс один». Иными словами, в течение полутора-двух суток проходила традиционная встреча представителей семи государств, и лишь на заключительное мероприятие (на ужин или на обед) приглашался представитель Российской Федерации.
Это правило работало во всех семерочно-восьмерочных структурах — на встречах министров финансов, министров иностранных дел, других министров, их заместителей, специалистов, помощников и т. д. Естественно, оно распространялось и на шерпов. Шерпы семи стран встречались, совещались, обсуждали содержательные вопросы и лишь на самое последнее мероприятие программы приглашали своего коллегу — российского шерпу. И вот тогда заслушивался доклад российского представителя о том, что происходит в России, ему задавались вопросы по российской ситуации, уточнялись детали. После чего российского представителя вежливо благодарили, и на этом работа уважаемого клуба по схеме «семь плюс один» завершалась.
Взаимоотношения в клубе лидеров государств были того же плана — вначале происходила содержательная работа «семерки», готовилось и принималось большинство важнейших документов. На заключительный прием пищи приглашался российский президент, коллеги заслушивали его информацию по состоянию реформ в стране, задавали вопросы, и встреча торжественно завершалась. По такой схеме происходили встречи «семерки» с Борисом Ельциным. Эта же процедура была распространена и на Владимира Путина. Так прошла и первая встреча клуба с участием Путина на Окинаве в Японии в июле 2000 года. Участия в совместном обсуждении общих для «семерки» проблем представители России не принимали.
Став шерпой и познакомившись с этой ситуацией на деле, я определил для себя, что продолжение сидения на том «приставном стуле», на котором Россия находилась в течение десяти предшествующих лет, является делом неприемлемым и совершенно нетерпимым. Решил, что стране надо получать полноправное членство в «восьмерке».
Причин для этого было несколько. Во-первых, в 1990-е годы было невероятно стыдно наблюдать, как очередной российский представитель, возвращаясь с международной встречи, рассказывает отечественным журналистам о том, что «вот теперь, наконец, мы полностью вошли в «восьмерку»». Знакомство же с мировой прессой никаких иллюзией не оставляло — слова российского представителя были дешевой пропагандой для внутреннего потребления, за рубежом все без исключения продолжали называть клуб «семеркой» — G7 (Group of Seven). Во-вторых, я считал, что участие в работе клуба на условиях «приставного стула» было унизительно и для нашей страны. В-третьих, был уверен, что по многим содержательным вопросам, обсуждаемым «семеркой», Россия способна внести содержательный вклад. В-четвертых, расценивал полноценное участие в работе «восьмерки» как дополнительный прорыв «железного занавеса», унаследованного от прежней эпохи, как ликвидацию многолетней международной изоляции России, как обучение работе российских представителей и специалистов в рамках международного общежития.
Наконец, был еще один набор соображений. Дело в том, что успех перехода в 1990-е годы целого ряда посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы от централизованной экономики и политического авторитаризма к рыночной экономике и демократии многими наблюдателями объяснялся в том числе и участием этих стран в таких мобилизующих процедурах, как потенциальное членство в Европейском союзе и НАТО. То есть обе эти организации выступали для этих стран в качестве своеобразного маяка, на который следовало ориентироваться, в качестве важных институциональных образцов высокоразвитых западных стран, к стандартам которых следовало приближаться.
В начале переходного периода в России дискуссия о возможности присоединения России к Европейскому союзу и НАТО шла постоянно. В 1990-е годы вопрос этот обсуждался регулярно. Правда, понятно было, что, учитывая дистанцию России от этих организаций по всем возможным параметрам, это не вопрос ближайшего времени, не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Но в разумной перспективе — через 15–20 лет — полномасштабное членство России в обеих организациях воспринималось совершенно естественным.
Однако к концу 1990-х годов стало ясно, что институциональное отставание России от европейских стран оказалось гораздо больше, чем ее экономическое отставание, гораздо серьезнее, чем это представлялось в начале десятилетия. В то же время скорость сокращения этого институционального отставания от Запада оказывалась гораздо ниже, чем хотелось. А по некоторым направлениям заметного сокращения институционального отставания не наблюдалось вовсе. Поэтому представлялось, что членство России в международных организациях западного мира могло бы быть весьма полезным и для сокращения российского отставания, и для облегчения процесса наших перемен. К концу 1990-х годов стало совершенно ясно, что по целому ряду причин полноценное членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО России не грозит ни в ближайшем, ни даже, возможно, в весьма отдаленном будущем.
Поэтому в списке наиболее важных организаций западного мира, в принципе способных включить Россию в свой состав и, следовательно, оказать позитивное воздействие на институциональную эволюцию самой России, остались лишь ВТО, ОЭСР, МЭА, политическая «семерка» и финансовая «семерка». Считая членство России в этих организациях чрезвычайно важным для развития нашей страны, своеобразным мобилизующим и дисциплинирующим фактором для российских властей, рассматривая процедуры и правила, принятые в этих организациях, в качестве определенных маяков-ориентиров, я принялся за работу.
Подготовленный мной соответствующий доклад по этому поводу был принят, взят на вооружение и начал осуществляться. Поскольку масштаб предстоящей работы был значительным, обязанности разделили. За вступление в ВТО взялся министр экономики, создавший для этого специальный департамент и назначивший полномочного представителя в рамках многосторонних торговых переговоров. Работу по продвижению к членству страны в финансовой «восьмерке» взял в свои руки министр финансов. Вступление в МЭА было поручено Министерству энергетики. Членство в ОЭСР было решено сделать совместным делом для министерств экономики и финансов. Наконец, членство в политической «восьмерке» стало делом шерпы.
Помимо общего плана интеграции России в мировое сообщество, мною был подготовлен отдельный план по вступлению страны в «восьмерку» и обеспечению полномасштабного членства в ней. После первых встреч с коллегами-шерпами мною был проведен анализ наших слабых мест. Выяснилось, что можно сделать, что нельзя, что допустимо, что недопустимо, что нужно делать обязательно. Был составлен план, и в течение двух лет его осуществление стало одним из важнейших приоритетов в моей работе. Ее самая трудная часть оказалась не вне страны, а внутри — обеспечивать приближение российской исполнительной власти к критериям, стандартам, принципам «восьмерки». За два года межведомственной команде, с которой я работал, удалось выполнить практически всю программу, за исключением нескольких мелочей.
Российское присутствие в «восьмерке» расширялось практически с каждым шагом: от одного ужина — к совместной программе на полдня. Затем перешли к программе на целый день, то есть один день «семерка» заседала сама по себе, другой день — вместе с Россией. Затем перешли к практически полной совместной программе, за исключением одного эксклюзивного заседания в рамках «семерки». И, наконец, в июне 2002 года в курортном канадском городке Кананаскисе произошел переход к полному формату участия России в «восьмерке».
Когда после краткого совещания в ограниченном формате к лидерам «семерки» присоединился Владимир Путин, премьер-министр Канады Жан Кретьен выступил почти как в фильме: «Мы тут посовещались, и я уполномочен сделать вам, господин президент, официальное предложение стать полноправным членом «восьмерки». Если у вас нет возражений, то в дальнейшем наша работа будет проходить в полном формате». Путин возражать не стал. Встреча в Кананаскисе стала последней, проведенной не в полном формате.
Следует обратить внимание на разницу между политической «восьмеркой» и финансовой «семеркой». Членами политического клуба являются политические лидеры государств — президенты и премьер-министры. Полномочными членами финансовой «семерки» являются министры финансов и часто — по договоренности с минфинами — руководители центральных банков. Политическим лидерам помогают шерпы. Министрам финансов помогают финансовые сушерпы. Повестка дня обсуждений в политическом и финансовом клубах существенно различается. Есть некоторые различия и в процедурах. Финансовая «семерка» не является подразделением или департаментом политического клуба, это отдельная организация. Политические лидеры могут попросить членов финансового клуба рассмотреть тот или иной вопрос, и члены финансового клуба, как правило, уважительно отвечают политическим лидерам. Но, строго говоря, не обязаны. Политические лидеры не могут заставить финансистов принять то или иное решение, в особенности они не могут заставить их изменить членство своего финансового клуба.
Различия между двумя организациями заметны по различиям между документами, принимаемыми в рамках политического клуба «восьмерки» — например, политическими лидерами (президентами, премьерами) или министрами иностранных дел, — и документами, принимаемыми в рамках финансового клуба — финансовыми представителями (министрами финансов и руководителями центральных банков).
Для превращения финансовой «семерки» в «восьмерку» была составлена развернутая программа мер и в финансово-экономической области. Однако решения в этой сфере принимает не шерпа, а министр финансов. В 2000–2002 годах мои предложения им не были восприняты. Позже — в рамках подготовки к саммиту в Санкт-Петербурге в июле 2006 года — большая часть моих предложений была реализована, в том числе и тогда, когда я ушел из администрации. Однако время было упущено, политическая ситуация изменилась, и отношение к России в мире стало уже другим. Россия так и не стала полномочным членом финансового клуба.
В последние годы финансовая «семерка» стала регулярно приглашать на свои встречи представителей Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, некоторых других стран. На некоторые заседания их приглашают вместе с российскими представителями, так что теперь получается уже немного другая организация — G13. Судя по тому, что экономический и финансовый потенциалы Китая и Индии, уже сейчас значительно превышающие российский, продолжают расти гораздо быстрее, чем наш, не исключено, что исторический шанс вхождения России в финансовый клуб развитых государств и превращение «семерки» в «восьмерку» с участием России упущен навсегда. Россия имеет все шансы стать полномочным членом других организаций — «Группы тринадцати», «двадцатки», но это уже не «восьмерка», это другие организации.
Оглядываясь на прошедшие за восемь лет события, можно подвести промежуточные итоги. Россия стала членом политической «восьмерки» в июне 2002 года. К 2008 году Россия по-прежнему не является полномочным членом ни ВТО, ни ОЭСР, ни МЭА, ни финансовой «восьмерки».
«Голландская болезнь»
Работа шерпой была важным, но все же лишь одним из направлений моей деятельности. Главным же делом была подготовка и аналитическое сопровождение тех решений, которые принимала исполнительная власть по экономическим вопросам. Таких вопросов было много, и обо всех говорить, конечно, невозможно. Из самых крупных — это, конечно, формирование макроэкономической политики.
Одним из ее центральных вопросов с самого начала стала «голландская болезнь» и противодействие ей. В конце апреля 2000 года, практически сразу же после назначения на должность советника, я вынес на обсуждение коллег предложения по мерам противодействия «голландской болезни» — сдерживанию государственных расходов, формированию стабилизационного фонда, опережающей выплате государственного долга. Для их обсуждения Путин созвал экономическое совещание — это было уже после его инаугурации и вступления в должность 7 мая 2000 года. Когда на совещании, на котором были Путин, Касьянов, Волошин, Кудрин, Греф, Козак, я впервые стал говорить о «голландской болезни» и тех вызовах, которые она ставит перед страной, меня никто не понял.
— Объясните, пожалуйста, и нам, непосвященным, о каких угрозах идет речь.
— «Голландской болезнью» называется существенное изменение макроэкономических пропорций, вызываемое массированным притоком иностранной валюты в страну в силу резкого изменения (повышения) уровня цен на товары ее традиционного экспорта. В российском случае такими товарами являются прежде всего нефть и газ. Повышение цен на них приводит к тому, что при сохраняющихся (или незначительно растущих) объемах их физического экспорта в страну начинает притекать огромное количество валюты, полученной от их продажи, обусловленное повышением цен. Приобретение иностранной валюты Центральным банком за рубли увеличивает объем рублевой денежной массы, которая, в свою очередь, приводит к повышению инфляции и росту реального курса национальной валюты. Иными словами, внутренние цены и зарплаты в долларовом измерении быстро возрастают, что делает издержки производства в стране более высокими, а продукцию национальной экономики — менее конкурентоспособной или же совсем неконкурентоспособной как внутри страны, так и за рубежом.
— Надо же, а ведь, казалось бы, от повышения цен на нефть и газ Россия должна только богатеть...
— Увы, неизбежным результатом «голландской болезни» становится общее замедление темпов роста экономики по сравнению с ее потенциалом. Если «голландская болезнь» не лечится, если она становится запущенной, то другие отрасли (кроме отраслей, вовлеченных в производство товаров, цены на которые заметно возросли) становятся неконкурентоспособными. Такие отрасли или не растут, или снижают объемы производства, или же увеличивают их, но темпами более низкими, чем их потенциальные темпы роста. Поскольку уровень национальных и отраслевых издержек становится неприемлемо высоким, многие предприятия становятся банкротами. Структура экономики приобретает уродливо гипертрофированную форму с искажением в пользу, например, энергетики. Сворачивание производства в других — обрабатывающих — отраслях приводит к сокращению в них занятости, росту безработицы, увеличению давления на государство в целях получения прямого или косвенного социального вспомоществования. А это, с одной стороны, приводит к росту нагрузки на бюджет, с другой — разрушает трудовые навыки, деловую этику, общественную мораль.
Болезнь впервые была описана детально на примере Голландии, на североморском шельфе которой в 1960–1970-е годы началась масштабная эксплуатация месторождений газа. В течение довольно короткого времени доходы от его экспорта привели к развитию перечисленных выше симптомов.
— И что же делать?
— Из описанных и достаточно хорошо известных мировой экономической науке фактов следует ряд выводов, фактически предопределяющих программу действий. Делать нужно вот что.
Во-первых, не допускать роста государственных расходов, соответствующего росту ВВП. Иными словами, государственные расходы в реальном измерении не должны расти не только быстрее ВВП, но даже наравне с ВВП, — надо сокращать удельный вес государственных расходов в ВВП. Во-вторых, надо увеличивать бюджетный профицит (положительную разницу между государственными доходами и государственными расходами). В-третьих, получаемые дополнительные средства следует накапливать в специальном (стабилизационном) фонде, находящемся за пределами обычного государственного бюджета. В-четвертых, средства такого фонда нельзя использовать внутри страны, так как в противном случае они вносят дополнительный вклад в инфляцию.
Следовательно, перед властями возникает непростая дилемма. С одной стороны, стране приходится нелегко, когда не хватает свободных финансовых ресурсов. С другой — когда их приходит слишком много, то использовать их внутри страны оказывается слишком опасным — и для инвестиций и для социальной поддержки. То есть, конечно, использовать их можно, но только использование этих средств внутри страны не только не решает национальных проблем, но и усугубляет их. Поэтому использовать такие средства можно только за пределами страны.
— Но на что же, спрашивается, их можно использовать за пределами страны?
— Прежде всего на погашение государственного внешнего долга. Российский внешний долг состоит из двух частей — советского, унаследованного от СССР, и российского, накопленного в 1990-е годы, — как в результате реструктуризации советского долга, так и в результате получения новых кредитов, в том числе от МВФ, Мирового банка, частных банков. После кризиса 1998 года государственный внешний долг достиг величины 156 млрд долларов, а отношение внешнего долга к ВВП в 1999 году достигло 77 % от валового внутреннего продукта России. Так что в данном случае — не было бы счастья, да несчастье помогло — появление дополнительных средств компенсировалось уже наличием того, на что тратить эти средства было можно и нужно — на погашение внешнего долга.
Поэтому программа лечения «голландской болезни» состояла из нескольких важнейших элементов: увеличение бюджетного профицита за счет относительного сокращения государственных расходов, создание стабилизационного фонда, в котором должны были накапливаться дополнительные средства, использование средств стабилизационного фонда на погашение внешнего долга, причем не только в согласованные сроки, но и досрочно. Это был особенно важный элемент программы, поскольку в 1990-е годы российские правительства не погашали госдолг, не оплачивали его, а реструктурировали, то есть получали новые кредиты. Накопленные же проценты «капитализировались» — то есть переоформлялись в основное тело долга. Естественно, такие операции реструктуризации были небесплатными — и российский государственный долг возрастал еще и за счет платы за реструктуризацию.
Процесс реструктуризации государственного долга был увлекательным, он оброс бойкими посредниками, консультантами, советниками, юристами, переговоры по реструктуризации долга были, естественно, непубличными и, следовательно, невероятно лакомыми для участников со всех сторон. А российский государственный долг тем временем продолжал расти. Проценты увеличивались, и Россия, как показали наши расчеты, на одних только процентах и платах за реструктуризацию в 1990-е годы заплатила около 100 млрд долларов, то есть сумму, превышавшую все новые российские заимствования того времени, вместе взятые. Иными словами, получалось так, что небогатая страна, не становившаяся, мягко скажем, более богатой, вынуждена была платить вовне больше, чем она получала из-за рубежа, причем в результате этих операций ее долг только увеличивался. Этот порочный круг надо было разорвать. Став советником президента, я попытался воспользоваться своим новым положением, чтобы покончить с такой практикой. Но не тут-то было!
Спор по поводу российских внешних заимствований начался, конечно же, не в 2000 году. В течение всех 1990-х годов мне приходилось регулярно выступать против увеличения внешнего долга. Однако силы были неравны — у независимого аналитика не так много веса по сравнению с проводящими политику властями. Одним из главных идеологов и авторов наращивания государственного долга в те годы выступал Чубайс, занимавший в 1990-е годы ключевые посты в российском руководстве, — первого вице-премьера, министра финансов, руководителя президентской администрации, специального представителя Российского правительства по переговорам с международными финансовыми организациями. В те времена в обиход вошла полушутка о медали «За взятие кредита». За время действия любимого детища Чубайса — «валютного коридора» — государственный внешний долг России вырос на 33 млрд долларов. До конца 1998 года он вырос бы еще минимум на 20 млрд долларов, если бы не августовский кризис, освободивший страну и от этого неизбежного дополнительного бремени, и — временно — от услуг Чубайса.
Став советником, я попытался убедить своих коллег в том, что политику увеличения государственного долга необходимо прекратить, а также в необходимости выплаты, в том числе и досрочной, внешнего долга. В качестве аргументов я приводил и макроэкономическую логику, и бюджетные расчеты, и моральные принципы, пытался показать, насколько выиграет страна, если начнет выплачивать долги прямо сейчас. Но тогда меня никто не поддержал. Позиция правительства (и Касьянова, и Кудрина, и Грефа) тогда была единой: такие предложения — нонсенс. Более того, правильный подход должен быть прямо противоположным — платить не надо, наоборот, рациональное поведение — отказ от платежей. Весь 2000 год прошел в тщетных попытках убедить коллег изменить правительственную политику.
Один из острых кризисов по этому поводу развернулся во время подготовки к саммиту «семерки» на Окинаве в июле 2000 года. Касьянов, бывший в 1999 году министром финансов и успешно проведший тогда переговоры с Лондонским клубом кредиторов по поводу сокращения российской задолженности, попытался повторить свой успех в переговорах с Парижским клубом кредиторов в 2000 году. Он говорил о том, что разрушенная экономическим кризисом Россия платить по своему долгу не может, и требовал сокращения российской задолженности по аналогии с Лондонским клубом.
С моей точки зрения, позиция Касьянова была слабой — и по экономическим аргументам и по политическим обстоятельствам. Парижский клуб — не Лондонский. Официальные кредиторы, правительства, — это не частные банки, у них другие правила по учету кредитов. Парижский клуб пошел на снижение абсолютной задолженности только по отношению к самым бедным странам мира, отягощенным огромной внешней задолженностью (так называемым HIPC — heavily indebted poor countries). Ни по одному критерию, применявшемуся в этом случае, Россия и близко не приближалась к странам HIPC. Даже в самые тяжелые экономические времена Россия и беднейшие страны относились к разным мирам. Более того, прежде чем привести хоть к какому-то результату, переговоры относительно снижения задолженности стран HIPC заняли почти два десятилетия.
За короткое время изменилась ситуация и в России. К лету 2000 года вместо больного, часто отсутствовавшего на работе Б. Ельцина в Кремле появился молодой, энергичный В. Путин. На смену неустойчивым, часто сменяемым правительствам пришло правительство, твердо поддержанное Госдумой. На смену экономическому кризису пришел впечатляющий экономический рост, к лету 2000 года завершавший уже второй свой год. Кроме того, пошли вверх цены на нефть, существенно облегчив бюджетную ситуацию. В 2000 году дефицит бюджета сменился профицитом. Валютные резервы страны, составлявшие в августе 1998 года 6,5 млрд долларов, к июлю 2000 года почти утроились, достигнув 17,5 млрд долларов. По мере продвижения экономических реформ, осуществленных и объявленных, экономическая ситуация в России обещала только улучшаться. Ни одно из этих событий не оставалось незамеченным нашими партнерами. В этих условиях требовать списания российского государственного долга означало, прямо скажем, требовать невозможного.
Наконец, одностороннее и необоснованное требование пересмотра своих обязательств находилось в кричащем противоречии с правилами поведения в цивилизованном сообществе. И оно уж точно было несовместимо с интеграцией страны в систему международных организаций, включая «семерку-восьмерку». Такие действия прямо подрывали возможность достижения страной ее стратегических целей.
Экономический рост
В 2000 году экономическая ситуация в России уже радикально отличалась от ситуации 1998–1999 годов, когда Россия находилась в состоянии тяжелого кризиса. В стране уже в течение двух лет шел впечатляющий экономический роста.
— Это из-за нефти?
— Экономический рост начался еще до начала повышения цен на нефть. В среднем в 1990-е годы цена барреля экспортной российской нефти составляла около 17 долларов. К августу 1998 года она снизилась до 10 долларов за баррель. В начале 1999 года она упала до 7,5–8 долларов. Весной 1999 года цена нефти пошла вверх, преодолев в апреле 11-долларовый рубеж. В сентябре 1999 года она уже превысила 18 долларов, а с ноября 1999-го уже не опускалась ниже 20 долларов.
Экономический же рост в России начался не в 2000 году, когда президентом стал Путин (или когда у него появился советник по экономике). Он начался и не в 1999 году, когда цена на нефть пошла вверх. Настоящий, реальный, устойчивый, или, как говорят на экономическом жаргоне, genuine, экономический рост в России начался в октябре 1998 года. Одним из важнейших факторов, обеспечившим начало экономического роста, стала девальвация рубля.
Напомню, что произошло именно то, что наш институт, Институт экономического анализа, предсказывал весной–летом 1998 года, выступая за отказ от политики «валютного коридора». Тогда наш институт выпустил несколько оперативных бюллетеней, специально посвященных проблеме валютного кризиса и детально обсуждавших неизбежную девальвацию. В отличие от наших оппонентов в правительстве и Центральном банке, в отличие от Гайдара и Чубайса, утверждавших, что девальвация валюты приведет к инфляции и гиперинфляции, к разрушению той эфемерной финансовой стабилизации, которая якобы была достигнута к лету 1998 года, мы утверждали другое.
Мы говорили, что динамика валютного курса и темпы инфляции, хотя и связаны между собой, но не столь прямо. Если нет массированной денежной эмиссии, то не будет и инфляции, хотя снижение валютного курса (девальвация) возможно. Более того, такое снижение курса рубля приведет к увеличению торгового баланса, снижению импорта, росту экспорта, прекращению экономического спада, началу экономического роста, увеличению занятости, повышению зарплат. На самом деле больших открытий тут мы не делали, мы лишь воспроизводили описание механизма действия экономических законов, известных в течение длительного времени и единых для всех экономик. То, о чем говорили мы, хорошо знает любой экономист среднего уровня подготовки, знакомый с основами денежной экономики. Помнится, наша позиция тогда подверглась осмеянию.
А в октябре 1998 года, сразу же после девальвации рубля, в России началось именно то, что было хорошо известно экономистам, то, что было детально описано в учебниках, и то, что предсказывалось в наших бюллетенях. Девальвация рубля произошла, а массированной денежной эмиссии не случилось. За это надо отдать должное правительству Евгения Примакова и новому (старому) председателю Центрального банка Виктору Геращенко.
— Как — Геращенко?!.
— Да, Геращенко. С ним произошло удивительное превращение. Из активного сторонника и организатора денежной эмиссии и инфляции образца 1992–1994 годов в 1998–1999 годах он превратился в некое подобие монетаристского ястреба. Никакой излишней денежной эмиссии, умеренность, аккуратность, сдержанность — вот ведущие принципы политики, проводившейся им теперь.
Причину невероятной метаморфозы, случившейся с Геращенко, следует, видимо, искать в изменении политической обстановки в стране. Одно дело — работать председателем ЦБ при враждебном для него правительстве Гайдара, при президенте Ельцине, бывшем для него воплощением абсолютного зла. И совсем другое дело — работать председателем ЦБ бок о бок с Примаковым, своим многолетним коллегой по спецслужбам. В 1998 году было ясно, что Ельцину на своем посту оставалось уже немного времени и, следовательно, сообществу спецслужб необходимо было после его ухода обеспечить передачу высшей государственной власти в правильные руки. Примаков тогда рассматривался в качестве наиболее успешной кандидатуры Корпорации с высокими шансами быть избранным президентом России. Следовательно, экономическая и политическая поддержка правительства Евгения Примакова для Виктора Геращенко становилась делом чести, доблести и геройства.
Как бы то ни было, новое (старое) руководство ЦБ в лице Геращенко в этот раз отличалось удивительной приверженностью монетаристским принципам, а правительство Примакова — проведением адекватной экономической политики. Контраст в поведении Геращенко в 1998–1999 годах по сравнению с его же действиями в 1992–1994 годах был таким, что провалились все прогнозы, сделанные Гайдаром, Чубайсом, Улюкаевым сразу же после назначения Примакова и Геращенко в сентябре 1998 года. Тогда они предсказывали к концу 1998 года и гиперинфляцию и падение валютного курса до 50 рублей за доллар. Ничего подобного в стране, как известно, не произошло.
Массированной денежной эмиссии Геращенко осуществлять не стал, и инфляция после вспышки в августе — сентябре достаточно быстро пошла вниз. Не случилось и падения курса рубля. После падения его до 20 рублей за доллар к декабрю 1998 года и 24 рублей к лету 1999-го — то есть примерно до того уровня, что наш институт предсказывал летом 1998 года, изменения валютного курса стали незначительными. Курс доллара преодолел 30-рублевую отметку лишь в декабре 2001 года и приблизился к 32 рублям за доллар год спустя. После этого под натиском растущих валютных поступлений он двинулся в обратном направлении, что и продолжает делать вплоть до сего дня.
В силу значительной девальвации рубля с октября 1998 года в России начался экономический рост. Причем следует обратить внимание на то, что наилучшие показатели экономического роста в России отмечались в течение года — с ноября 1998 года по август 1999 года. Тогда темпы роста ВВП оказались самыми высокими как минимум за последнюю треть века. Темпы прироста промышленного производства в среднегодовом исчислении тогда устойчиво держались выше 12%, в течение одного зимнего квартала — с декабря 1998 года по февраль 1999 года — они превысили даже 20%. Темпы прироста продукции обрабатывающих отраслей в течение полугода составляли 25%, машиностроения — 30–40%, легкой промышленности в течение года — 40–50%, производства электрооборудования — 50–60%. Это был по-настоящему экономический бум. Реальный бум. Бум на уровне азиатских «тигров» (Гонконга, Сингапура, Кореи, Тайваня). Бум, происходивший в условиях отчасти сходной с проводившейся в них экономической политики — бюджетной, денежной, валютной.
Подчеркиваю, блестящий экономический рост в России начался еще до моего прихода в администрацию. И до избрания президентом Владимира Путина. Более того, любопытно, что именно с августа 1999 года, с того времени, когда Путин был назначен премьер-министром России, темпы экономического роста заметно пошли на спад. Понятно, что само такое назначение вряд ли могло иметь столь оперативное воздействие на темпы экономического роста. Но факт остается фактом.
Если кто-то и что-то заслуживает признания за эти впечатляющие результаты, то это политика, проводившаяся, мягко говоря, розовым, если не сказать красным, правительством Е. Примакова с Ю. Маслюковым в качестве первого вице-премьера, М. Задорновым в качестве министра финансов, а также с В. Геращенко в качестве руководителя Центрального банка. Конечно, можно сказать, что они оказались счастливыми баловнями судьбы, не вполне понимавшими ни того, что происходит в экономике, ни того, что надо делать. Но, мне кажется, это не вполне справедливо. По крайней мере испортить, остановить, прекратить можно было какой угодно экономический бум. И советчиков, как это сделать, было немало. Да, в общем, и взгляды самих руководителей больших надежд не оставляли. Но — не остановили, не прекратили и не испортили!
Лица, оказывающиеся на руководящих постах, играют исключительно важную роль. В российском случае — в особенности. Политический характер проводившейся экономической политики впечатляет. Еще в середине 1990-х годов, наблюдая за цикличностью экономической политики в других странах с переходной экономикой, я допускал вариант развития, в соответствии с которым восстановление экономического роста происходит во время нахождения во власти как раз левых политиков. Однако, честно говоря, не предполагал такого радикального поворота, таких впечатляющих изменений за столь короткий срок. Удивительно, каких результатов удается добиваться, если граждане, в том числе и во власти, работают на себя, на свою политическую силу, на свою организацию, на свою власть. Когда они знают, для чего и для кого они действуют, то работают, как говорится, не за страх, а за совесть. И совсем другое дело — если они оказываются в ситуации борьбы против власти, являющейся для них чужой, если приходится работать против чужой политической силы, против чужой власти. Тогда кризисы и катастрофы практически гарантированы. Жертвой такой борьбы становится национальная экономика и, естественно, граждане страны.
Одним из наиболее важных наблюдений для меня тогда стало осознание того, что грамотная экономическая политика в принципе может проводиться и в нашей стране. Причем она может проводиться и коммунистами и представителями спецслужб, — если, конечно, им это будет надо. И де-факто именно такая политика проводилась в течение девяти месяцев — с сентября 1998-го по май 1999 года. Именно она способствовала получению наилучших, наиболее впечатляющих экономических результатов. Во многом именно потому я говорил, что по качеству экономической политики правительство Примакова оказалось гораздо более либеральным, чем правительства Гайдара, Черномырдина с Чубайсом, Кириенко. Насколько можно было видеть, самому Примакову лично слышать это было неприятно, он как будто ежился каждый раз, когда это слышал. Конечно, в части либерала, не в части похвалы. Сам он никогда такого термина не использовал, свою политику такой не признавал. Но и возражать — тоже, кажется, никогда не возражал.
Долг чести
С октября 1998 года в России начался устойчивый экономический рост. Он продолжался последний квартал 1998 года, весь 1999 год, весь 2000 год. К лету 2000 года за плечами страны оказалось более полутора лет бурного экономического роста. Настоящего бума. А с весны 1999 года в экономическую копилку начинает добавляться фактор роста цен на нефть. В таких условиях настаивать на списании внешнего долга было совершенно нелепо. Это примерно так же, как прийти в бар, позвякивая монетами в кармане, заказать пива, выпить его, а потом отказаться платить за выпитое.
Тем не менее Касьянов продолжал настаивать. В дополнение к разнообразным действиям в бюрократическом поле он вышел и в публичное пространство. Российские власти начали весьма агрессивную пропагандистскую кампанию, а за день до саммита на Окинаве Касьянов опубликовал в «Файненшел Таймс» свою статью с требованием к «семерке» списать часть российского долга. Соответствующие рекомендации он, естественно, накануне дал и Путину.
«Семерка» тоже не дремала и готовилась дать отпор зарвавшемуся парвеню. По шерповским каналам было передано, что если только Путин на встрече с лидерами семи стран заикнется о списании долга, то ему быстро и в очень доходчивой форме пояснят правила поведения в эксклюзивном клубе.
Когда на саммите на Окинаве Путину было предоставлено слово, он спокойно и довольно подробно рассказал о том, что его администрация уже сделала и что собирается сделать в экономической сфере, какие реформы уже проведены, какие намечены. Слушатели ждали, когда Путин станет говорить про внешний долг. Мне показалось даже, что у некоторых участников встречи как будто бы даже начали сжиматься кулаки и они даже как-то немного подались вперед, принимая что-то вроде боевой стойки и готовясь к словесному удару. Путин закончил свое выступление, про внешний долг не проронив ни слова. Как будто эта тема его совершенно не интересовала. Как будто внешнего долга у России вообще не было.
Когда он закончил, в зале повисла тишина. Через некоторое время председательствовавший на встрече премьер-министр Японии Е. Мори недоуменно спросил: «И это все?» Путин пожал плечами. Опять воцарилась тишина. Лидеры «семерки» недоуменно и как-то даже немного разочарованно стали рассматривать Путина. Через несколько секунд Мори снова спрашивает: «Вы закончили ваше выступление?» Путин говорит: «Да». Опять пауза. Лидеры «семерки» смотрят на Путина, переглядываются, явно не понимая, что происходит. Наконец, в третий раз: «Я вас правильно понимаю, что вы завершили ваше выступление и вы ничего больше не хотите сообщить нам дополнительно?» — говорит Мори с ударением на «больше» и «дополнительно» и так пристально-пристально всматривается в Путина. Надо сказать, что и все остальные прямо впились глазами в Путина. А тот сидит совершенно невозмутимо и снова плечами пожимает: «Да нет, говорит, ничего». После этого Мори помолчал, медленно повернулся и так раздумчиво говорит: «Ну что ж, давайте переходить к следующему вопросу».
Так удалось избежать крайне неприятной ситуации, непродуктивной склоки и одновременно заложить фундамент будущего решения «семерки» в Кананаскисе.
Но проблема внешнего долга, естественно, никуда не делась. Поскольку она уже была вынесена в публичное пространство, то осенью 2000 года общественность была подробно проинформирована о концепции противодействия «голландской болезни» — я дал пресс-конференцию, ряд интервью, комментарии по отдельным аспектам этой проблемы. В журнале «Эксперт» была опубликована моя колонка «Долг чести». Чуть позже в журнале «Вопросы экономики» вышли статьи «Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором» и «Платить или не платить?».
Многие комментарии на мои выступления были однотипными: они в основном сводились к выражению недоумения различной степени эмоциональности. Предложения о выплате долга вообще, а к тому же и о выплате долга с опережением сроков казались тогда настолько невероятными, настолько странными и абсурдными, что некоторые авторы выражали сомнение в интеллектуальной и психической адекватности президентского советника: «Это же надо додуматься до того, чтобы бедная страна платила внешние долги, да еще и досрочно! Только ненормального на посту экономического советника президента нам и не хватало!»
Справедливости ради надо сказать, что не все отклики были такого рода. Помню, был развернутый комментарий на Полит. ру «Андрей Илларионов: мировая рента, внешние долги и экономический рост — власти не сумели сложить этот пазл», порадовавший зрелостью авторов, к которым, как я узнал позже, относился и Кирилл Рогов.
Осенью 2000-го — зимой 2000/01 года ситуация заметно обострилась. Касьянов, не добившийся успехов на переговорах с Парижским клубом, пошел на весьма рискованную игру — на фактический шантаж кредиторов с односторонним — со стороны России — прекращением платежей. Это привело к эскалации угроз и обвинений с обеих сторон. С 1 января 2001 года Российская Федерация официально отказалась от обслуживания и выплаты внешнего долга. Касьянов официально заявил, что РФ сделать этого сейчас не может, потому что — цитирую близко к тексту: в нескольких регионах страны случились большие морозы, где-то полопались трубы. Поэтому Россия не может позволить себе в таких условиях роскоши выплаты долга и прекращает платежи по Парижскому клубу.
Шантаж со стороны Российского правительства был не только грубым и бездарным по форме, но и безосновательным по сути и, конечно, совершенно бесперспективным. В западных правительствах тоже экономические сводки читали, причем неплохо читали. Оснований для списания долга в той макроэкономической ситуации не было никаких. Кроме того, по правилам Парижского клуба списание долга вообще юридически невозможно. И наши западные коллеги неоднократно нас предупреждали, что в случае отказа России от выплаты внешнего долга страны-кредиторы вынуждены будут предпринять соответствующие действия, связанные с выходом России за пределы цивилизованного круга народов. И заплатить все равно придется. Иными словами, хозяева пивбара совместно с другими его завсегдатаями хорошенько проучат наглеца, отказывающегося платить, после чего он, утираясь, конечно, заплатит за свою кружку. А вот в бар его больше уже не пустят.
Тем не менее заявление о прекращении платежей в начале января 2001 года премьером Касьяновым было сделано. Министр финансов Кудрин также подтвердил, что Россия платить не будет. И 1 января Россия прекратила платежи. На Западе начались интенсивные консультации по поводу того, что делать с Россией. В начале января прошло несколько совещаний, в том числе на уровне финансовых шерп «семерки». Было принято решение: если по истечении нескольких недель Россия не возобновит платежи по внешнему долгу, то она превращает себя в изгоя международного финансового сообщества и исключается из работы клуба даже в формате «семерка плюс один». Если будет недостаточно, последуют и другие санкции.
Оснований полагать, что «семерка» блефует, не было. Опять я пытался убедить моих коллег пересмотреть свою позицию, чтобы не доводить дело до внешнеполитической катастрофы. Увы, мои усилия не увенчались успехом — правительство решило самостоятельно и в инициативном порядке затопить свой «Титаник». 17 января финансовый сушерпа Германии и первый заместитель министра финансов Германии Кох-Везер по поручению своих коллег выступил на страницах «Файненшел Таймс Дойчланд» с публичным предупреждением о готовящихся санкциях в отношении России.
Я узнал об этой статье после того, как вернулся с пресс-конференции по вопросам долговой политики в агентстве Интерфакс. Позицию Российского правительства я, скажем мягко, раскритиковал. Центральными стали три тезиса: «Платить можно. Платить нужно. Платить выгодно». В конце добавил, что позиция Российского правительства об отказе от обслуживания внешних долгов подобна мелкому хулиганству — обрыванию телефонных трубок в будках и отправлению естественных нужд в подъездах.
Надо сказать, что народу на пресс-конференции было много, и такое заявление и по сути и по некоторой недипломатичности формулировок, конечно, имело соответствующее воздействие. Не буду скрывать, средствам массовой информации и у нас и за рубежом некоторые образы понравились, и они не преминули широко их воспроизвести. Однако каким бы ни было внимание СМИ, какими бы ни были мои заявления, это была лишь позиция одного человека — пусть и советника президента. Позиция правительства осталась неизменной.
— Какой прекрасный повод обвинить Вас в продажности и заявить, что Вы вражескй шпион!
— Так оно, в общем, и получилось. На следующий день газеты заполнились разнообразными комментариями, включая, естественно, и констатациями того, как высоко в российскую власть пробрались агенты ЦРУ.
Еще через день президент собрал чрезвычайное экономическое совещание по обсуждению долговой политики. На совещании первое слово было предоставлено Касьянову. Он начал споро — обвинил меня в предательстве, в измене, в работе на западные спецслужбы, в разоблачении секретных правительственных планов, в нанесении удара в спину правительству, напомнил присутствовавшим о гражданстве моей жены, продемонстрировал знакомство с весьма специальной информацией о допуске к секретным материалам. В конце он потребовал от всех и прежде всего от Путина прекратить предоставление мне каких-либо официальных документов: предоставлять информацию изменнику недопустимо!
Совещание шло примерно два часа, и выступавшие в разной, но уже более мягкой, форме поддержали Касьянова. Изменнические шаги советника президента были дружно осуждены. Чуть позже я узнал, что накануне Путин разговаривал с Гайдаром и Гайдар якобы сказал, что в общем и целом мое поведение недопустимо: надо выдерживать единую политику власти. Когда очередь дошла до меня и я попытался начать говорить, Путин меня прервал: «Андрей Николаевич, а вам говорить уже не надо. Вы уже все сказали»...
Совещание продолжалось. Президент внимательно слушал. Когда все выступили, Путин сказал: «Хорошо. Все понятно. Теперь я объявляю решение: Россия возобновляет выплаты по внешнему долгу». Никакой аргументации ни «за», ни «против» он не привел, просто сказал: «Решение принято, выполняйте». Касьянов стал малиновым, для него это было как гром среди ясного неба, он не мог такого даже представить и попытался возражать. Но Путин обрезал: «Дискуссия закончена. Решение принято».
Официальных публичных заявлений по итогам совещания никто не сделал. Лишь через несколько дней было выпущено специальное заявление Министерства финансов о том, что Россия возобновляет выплаты по внешнему долгу. Но ни у нас, ни на Западе его поначалу всерьез не приняли. Заявление об отказе платежей было сделано на одном уровне — премьером, а заявление о возобновлении платежей было другого уровня — Министерства финансов. К тому же и сам министр финансов молчал, заявление было подписано лишь министерской пресс-службой. Так что обстановка сохранялась напряженной.
В конце января российская делегация отправилась в Давос на Всемирный экономический форум. На сессии, посвященной России, огромное количество вопросов было посвящено именно этой теме: все считали, что Россия по-прежнему упорствует. Министр финансов Кудрин детально и подробно объяснял, что не надо беспокоиться, что Россия возобновит платежи, надо лишь уточнить бюджетную роспись. Я сидел рядом и не возражал. Участники сессии, кажется, так до конца и не поверили.
Тем не менее к началу апреля 2001 года задолженность по обслуживанию российского внешнего долга, накопленная с начала года, Минфином была полностью ликвидирована, и Россия вернулась в нормальный график платежей.
— А что со стабилизационным фондом?
— Борьба за создание стабилизационного фонда заняла еще несколько лет. Поначалу против него возражали все. Потом ситуация стала понемногу меняться. Примерно через год Кудрин согласился, что, пожалуй, это действительно правильно. Через год в своем послании президент заявил о разделении бюджета на две части. После этого в качестве прототипа стабфонда был создан резервный фонд. Одновременно Минфин заказал Институту экономических проблем переходного периода (институту Егора Гайдара) подготовить законодательство о формировании этого фонда.
С начала 2004 года резервный фонд был преобразован в стабилизационный фонд, основные принципы которого были сформулированы весной 2000 года. С тех пор стабилизационный фонд представляет собой один из центральных элементов современной макроэкономической политики Российского правительства. Строго говоря, уже трех российских правительств — Касьянова, Фрадкова и Зубкова.
Любопытно, что сам Касьянов, выступая в начале 2007 года с одной из своих предвыборных речей, долго перечислял, что делается российскими властями неверно. А затем назвал то, что делается правильно, — сохранение стабилизационного фонда и погашение внешнего долга...
Что касается внешнего долга, то мое предложение о досрочном его погашении тоже было через некоторое время принято на вооружение и затем активно исполнялось. Россия перестала брать новые кредиты, довольно быстро расплатилась с МВФ и затем приступила к погашению долга перед членами Парижского клуба. Общие размеры государственного внешнего долга были сокращены радикально: если на конец 1999 года он составлял 77% ВВП, то на конец 2007 года — уже менее 4% ВВП. К 2008 году основная часть внешнего долга, как унаследованного с советских времен, так и полученная в российские годы, уже погашена. Таким образом, оказалось практически выполненным еще одно мое предсказание — о том, что внешний долг можно полностью выплатить в течение 8 лет. В 2000 году такие слова многими воспринимались как бред.
Как видите, у нас уже не первый раз получается своеобразное закольцовывание — возвращение через годы к темам, которые появлялись раньше. Что делать — с течением времени нормальные люди корректируют свои позиции, а то и меняют их на противоположные. Так было с моей учительницей обществоведения. Так произошло позже и на совершенно другом — правительственном — уровне. И теперь российские правительства гордятся и работой стабилизационного фонда, и погашением внешнего долга. Не пропустил удачной возможности промолчать и Чубайс, только что расхваливший Кудрина за создание и отстаивание стабилизационного фонда и, очевидно, полагающий, что его требования трехлетней давности о выделении средств стабфонда для РАО ЕЭС уже забыты.
Забавно видеть, как авторы книжонки «Враги Путина» (меня туда тоже включили) расхваливают работу стабфонда. Смешно видеть «нашистов», носящихся по Москве с листовками, призывающими громить врагов Путина, и называющих в тех же листовках в числе заслуг и саммит «восьмерки», проведенный в Петербурге в 2006 году, и погашение внешнего долга.
Как известно, в России ни одно хорошее дело не остается безнаказанным.
Удвоение ВВП
Главным направлением моей работы было формирование макроэкономической политики. Какой? Оптимальной для сохранения, поддержания и ускорения приличных темпов экономического роста. Экономический рост — это одна из наиболее дорогих мне тем. В течение почти двух десятилетий до прихода в администрацию я занимался проблемами экономического роста. Придя же в администрацию, постарался воплотить в практической деятельности хотя бы часть своих теоретических наработок.
Проведенные исследования показали, что одним из ключевых (хотя и не единственным) факторов экономического роста являются так называемые размеры государства. Под этим термином в экономической науке понимается не величина территории страны, не численность ее населения, не параметры иных государственных символов — дворца правителя, главной имперской крепости, танковой или броненосной армады на полигонах и морях. Размеры государства в экономическом смысле — это удельный вес государственных расходов в национальной экономике, в ВВП. Причем для большей части стран мира (с населением более 1 миллиона человек) в последние десятилетия характерна четко выраженная отрицательная связь между размерами государства и темпами экономического роста. Иными словами, большие размеры государства — высокий удельный вес государственных расходов в ВВП — препятствуют экономическому росту. Существует так называемая кривая экономического роста, весьма похожая на известную кривую Лаффера, с помощью которой можно определить оптимальные размеры государства для стран с разной численностью населения, находящихся на разных уровнях экономического развития.
Соответствующий анализ показал, что оптимальными размерами государства для современной России является полоса значений в пределах 15–20% ВВП. Именно при таком уровне государственных расходов в ВВП достижимы, при прочих равных условиях, максимальные темпы роста российской экономики. Размеры государства в 38% ВВП являются критическими — при превышении этого уровня экономический рост в стране становится невозможным. При более значительных размерах государства часто начинается экономический спад.
В 1992 году, во время деятельности правительства Гайдара, удельный вес государственных расходов в ВВП был увеличен до 72 % ВВП. Неудивительно, что страна погрузилась в жесточайший экономический кризис, более жестокий даже по сравнению с последними годами существования советского режима. Российский ВВП тогда упал на 14,5%. Будучи министром финансов и вице-премьером Борис Федоров сумел в 1993 году сократить размеры Российского государства до 45% ВВП. Экономический спад продолжился, но темпы его снизились до 8,7%. В 1994 году, избавившись от Федорова, Черномырдин увеличил государственные расходы до 48% ВВП. Темпы экономического спада возросли, и российский ВВП рухнул еще на 13%.
В 1995–1998 годах размеры государства удерживались на уровне около 42% ВВП. Экономический спад продолжался, но темпы его были уже меньше — около 3% в среднем в год. Августовский кризис 1998 года оказался одним из наиболее радикальных экономических хирургов, лишив власть свободных финансовых ресурсов и не позволивших правительству Примакова тратить более 35% национальных экономических ресурсов. Как известно, именно тогда и начался современный экономический рост в России.
Понимая, что устойчивый экономический рост возможен только в условиях разумной государственной нагрузки на экономику, на посту советника я старался добиться институционального закрепления изменения размеров государства, достигнутого в поставгустовские полтора года. Для начала были сформулированы целевые ориентиры экономической политики на первый и второй четырехлетние периоды президентства Путина. Наметившееся отступление — удельный вес государственных расходов по итогам 1999 года поднялся до 37% ВВП (по данным, имевшимся на то время) — означало неизбежное возвращение к экономической стагнации в лучшем случае, к возобновлению экономического спада — в худшем. Поэтому задачей номер один в экономической политике стало сокращение размеров государства.
Хотя оптимальным (с точки зрения максимизации экономического роста) значением удельного веса государственных расходов в национальной экономике оказалась величина в 17% ВВП, было ясно, что в обозримом будущем достижение ее маловероятно. Цифра в 20–22% ВВП выглядела более реалистичной. Именно она и была выдвинута в качестве ориентира для достижения в течение 10–15-летней перспективы. В качестве ближайшей цели была поставлена задача сокращения размеров государства до 30% ВВП к 2004 году с дальнейшим их сокращением до 25% ВВП к 2008 году. Под эти целевые ориентиры была разработана всеобъемлющая программа реорганизации не только государственного бюджета, но всей бюджетной системы страны.
Сейчас я оставляю в стороне нашу долгую и малопродуктивную дискуссию с представителями экономических властей, начавшуюся еще во времена Центра стратегических разработок. И Греф, и Касьянов практически по всем вопросам экономической политики выступали против. Кудрин демонстрировал симпатию к некоторым идеям, но поначалу действовал иначе. Если в 2000 году госрасходы были еще на уровне 32% ВВП, то в 2001-м они поднялись уже до 34%, а в 2002-м — до 38% ВВП. Темпы прироста ВВП, достигавшие в 2000 году 10%, в 2001-м упали до 5,1%, а в 2002-м — до 4,7%.
Постепенно проникаясь идеями сокращения размеров государства и чувствуя заметное замедление экономического роста, Кудрин решился реализовать свой административно-бюрократический потенциал и инициировал создание в 2002 году специальной правительственной комиссии по уточнению государственных обязательств и сокращению государственных расходов. Наряду с сотнями специалистов из всех министерств и ведомств в этой работе участвовал и я. Должен сказать, что это была, пожалуй, наиболее значительная, наиболее продуманная и наиболее подготовленная реформа российских государственных финансов за последние два десятилетия.
Во многом опираясь на теоретическую базу, выдвинутую мной, и на практическую работу, осуществлявшуюся под руководством Кудрина, Путин в своем послании Федеральному собранию 2003 года выдвинул лозунг удвоения ВВП — удвоение экономических ресурсов на душу населения за десятилетие. 25 июня 2003 года на пресс-конференции в Александр-хаусе я познакомил общественность с материалами своего доклада «Как удвоить ВВП? Первый шаг к российскому экономическому чуду».
На лозунг удвоения экономического потенциала страны откликнулись и профессиональные экономисты, и руководители ведомств, и губернаторы. Как часто бывает в России, лозунг стал приобретать черты кампании. Из разных мест стали доноситься рапорты о том, как там все удваивается. Отчасти кампания, отчасти лозунг, отчасти содержательная программа подверглись и критике — в частности, со стороны заместителя директора гайдаровского института Владимира Мау. Тем не менее идея ускоренного экономического роста, российского экономического чуда, оказалась все же весьма популярной. Настолько, что была полностью воспроизведена в президентском послании следующего, 2004 года.
Реализация программы уменьшения размеров государства стала приносить свои результаты. Уже в 2003 году размеры государства были сокращены до 35% ВВП. Далее сокращение продолжилось: в 2004 году государственные расходы были снижены до 32,1% ВВП, в 2005 году — до 31,6%, в 2006-м — до 31,3% ВВП. В 2007 году их удельный вес в ВВП составил около 33% ВВП. Результатом чувствительного снижения государственной нагрузки на экономику стало заметное ускорение экономического роста и его выход на траекторию около 7% ежегодно в 2003–2007 годах. Вне всякого сомнения, российскому экономическому росту очень помогли и продолжают помогать сильно возросшие мировые цены на энергоносители. Но и вклад снижения государственной нагрузки является тоже весомым.
К сформулированному в 2000 году целевому ориентиру размеров государства на 2004 год — 30% ВВП — российские власти так и не пришли, но тем не менее существенно приблизились. Причем забавно, что максимальное приближение — около 31% ВВП — было достигнуто тогда, когда я уже ушел из администрации — в 2006 году. Платой за верность курсу (только в этой части, естественно) стал приличный экономический рост. Конечно, он мог быть и гораздо выше, темпы роста в России могли быть и двузначными, реализуй власти сформулированную в 2000 году программу полностью. Но даже то, что было сделано, дает основания испытывать известное удовлетворение.
Из всего того, что было сделано мною на посту советника президента, более всего, наверное, я горжусь именно этим. Это ведь весьма нечастая ситуация, когда экономист оказывается в государственной власти, причем в положении, когда он действительно может либо принимать существенные решения, либо влиять на их принятие. И тем большая редкость, если он может реализовать программу действий, базируясь на результатах собственных исследований. Еще реже случаются ситуации, когда в итоге получаются предсказанные результаты. И уж совсем почти невероятным выглядит продолжение той же самой политики после ухода ее автора из власти, соблюдение ее принципов теми же людьми, кто теперь публично возражает, критикует ее автора и даже называет его своим врагом. Причем независимо от всего этого результаты политики остаются теми же — устойчивый рост национальной экономики.
— А что относится к госрасходам?
— Очень многое. Расходы на оборону, образование, медицину, погашение внешнего долга, административные расходы, социальные расходы. Принципиальный вопрос экономического развития: кто тратит деньги — частник или государство? Если государство, то надо понимать, что в большинстве случаев оно тратит их менее эффективно, чем частник.
— И те самые льготы, которые подверглись монетизации, — это тоже государственные расходы?
— Это тоже государственные расходы. Я считал тогда и считаю сейчас, что в том виде и в тех размерах, в каких они существовали, наши социальные расходы были абсолютно неподъемными и непосильными для страны. То, что их надо было сокращать, — вне всякого сомнения. Другой вопрос — как сокращать. Ситуация, в которой значительная часть социальных расходов достается людям зажиточным, а не бедным, нелепа. Она не только экономически неэффективна, она социально несправедлива. С другой стороны, я считаю, что лучший способ получения денег — их зарабатывание. Нет большего экономического вреда, наносимого бедным людям, чем не давать им возможности самим зарабатывать деньги, глушить их предприимчивость и инициативу раздачей государственных субсидий.
Социальные расходы были и, кстати, остаются весьма неэффективными и коррупционногенными. Причем размеры воровства в социальной сфере явно не меньше, а возможно, и больше, чем во многих других сферах. Такую ситуацию сохранять было нельзя. Другое дело, что сокращать любые расходы, а особенно социальные, нельзя чисто командным методом. Любое изменение устойчивого, повторяющегося поведения весьма чувствительно, болезненно. Такие изменения не могут быть осуществлены без детальных, долгих, часто очень трудных обсуждений и согласований со всеми заинтересованными лицами — от общественности до политических партий в парламенте. Как это делать, каким образом — очень важная и очень интересная тема. Но — другая.
Чтобы завершить тему «удвоения», позволю обратить Ваше внимание на итоговые результаты развития экономики страны за последние 9 лет. Со времени августовского кризиса 1998 году душевой ВВП в России вырос на 89%. В случае если экономический рост в 2008 году будет не ниже 5,5% (что весьма вероятно), то увеличение этого показателя за 10 лет составит 100%. Или удвоение за десятилетие. То есть произойдет то, что было выдвинуто в 2003 году в качестве лозунга, подкреплено теоретическими расчетами и поддержано практическими действиями. Вот так у нас получилось и еще одно любопытное «кольцевание».
Вернуться к списку
|